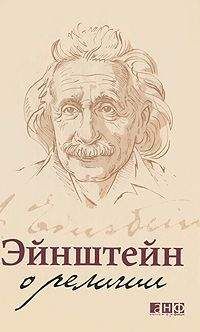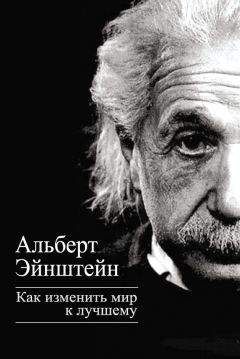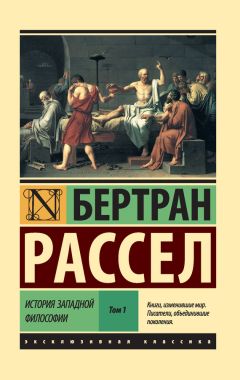Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
Да, художник меньшего масштаба и чуткости взял бы, наверное, и героя покрупнее, и лагерный мир изобразил бы в более крайних, мучительно жестоких впечатлениях – «ужасов» в той действительности было не занимать. Но глубокий такт продиктовал Солженицыну другое решение: выбрать не исключительный своими страданиями день зэка, а день рядовой, даже счастливый, и это сделало всю картину еще неотразимее в своей силе. Если таков один день, то что такое полный лагерный «срок», как могли выдержать его люди? И если этот день счастливый, то что можно рассказать о несчастном дне заключенного?
В повести перед читателями проходят десятки лиц, соседей Ивана Денисовича по бараку, надзирателей, конвойных. И художественная концентрированность этого текста такова, что большинство из них, даже отмеченные двумя-тремя летучими штрихами, долго светятся в памяти. Звонкий морской офицер Буйновский, по меткому замечанию С.Я. Маршака, еще чувствующий на себе неспоротыми шевроны кавторанга; и добросовестный работяга Сенька Клевшин, бежавший из Бухенвальда, чтобы оказаться в советской неволе; московский кинорежиссер Цезарь Маркович в пушистой шапке и со своими столичными «цеховыми» разговорами об искусстве; и опустившийся вконец, подбирающий окурки шакал Фетюков…
Буйновский кричит в повести издевающейся над зэками охране: «Вы не советские люди!» Эта реплика, как и весь образ кавторанга, давали критике основание, вслед за Хрущевым, говорить о «партийности» повести. Но точка зрения повествователя несводима ко взгляду и психологии Буйновского. Так же как горькая память автора несводима к репрессиям над коммунистами, к черному 37-му году, Солженицын как бы наперед угадывал, что обществу предстоит открытие для себя более глубоких слоев несправедливости, преступлений против народа. Он не торопил нас с прозрением, но как стрелами били в прошлое, в недомолвках и загадках, судьбы эпизодических лиц. Это и бригадир Тюрин, вспоминающий о сосланной семье и бедах раскулачивания 30-го года, торивших дорогу к жертвам 37-го. («Все ж Ты есть, создатель, на небе. Долго терпишь да больно бьешь».) Это и фигура несогнувшегося старика Ю-81, с лицом как «камень тесаный, темный» – должно быть, еще революционера с царских времен, жертвы первых процессов против меньшевиков и эсеров. Это и честнейший работник латыш Кильдигс, и высланные эстонцы Эйно и его названый брат, и пострадавший за свою веру Алешка-баптист. Все они на втором плане рассказа, составляют дальний тон многофигурной фрески – но такой насыщенный значением фон, когда, всмотревшись, как в творения Микеланджело в любую фигуру, открываешь еще одну трагическую страницу недавней истории.
В повести живут десятки точных и смелых подробностей, так что она может служить «малым энциклопедическим словарем» сталинской каторги. (Большим словарем станет «Архипелаг ГУЛАГ»).
Узнаешь, как спят, едят, проходят «шмон» у ворот «зоны», работают «на объекте» узники лагеря. О чем говорят между собою. Что презирают и что ценят, чего боятся и на что надеются эти отверженные люди.
Но главное – энергия гуманного чувства. В момент, когда писалась повесть, на Солженицына словно снизошла благодать высшей, лежащей вне заурядного человеческого разумения справедливости, художественной объективности. И это сообщило повести гармонию содержания и средств выражения, когда искусство выступает в одежде безыскусности, а привычная похвала «мастерству» ничего не стоит, так как само оно как бы исчезает, растворенное в истине образов и картин. Автор литературно не приглаживает свой стиль, заставляет видеть грубую материю, фактуру, неотесанные лохматые края, будто у вывернутого и клочковатого пласта земли. Возникает иллюзия необработанности, хотя обработка, да еще какая искусная, здесь есть, так же как экспериментальная новизна языка, не во вред естественности речи.
Солженицын богато использовал приемы полифонии, тем более удивительной, что автор почти нигде не вышел из «тона» и восприятия простого мужика Шухова. Скажем, идет колонна к зоне, думает Иван Денисович о своем, вдруг Цезарь с кавторангом словечком перекинулись, потом умолкли снова… Улюлюкают зэки, внимание Ивана Денисовича на них, опять обрывок разговора… И все вместе дает ощущение движения, дышащей жизни.
Такого достигал мало кто из пишущих современников, да и сам Солженицын, по совести говоря, далеко не всегда поднимался впоследствии до такой художественной безупречности. И это при краткости описаний, аскетическом отсутствии всего лишнего. Такие подробности, как «виноватая улыбка» Буйновского, склонившегося над миской с кашей, или брошенное вскользь замечание, что Шухов и сам уже не знал, «хотел он воли или нет», стоят многих страниц комментариев.
Сжатая, как пружина, сверхплотная, как вещество далеких звезд, выверенная по точнейшему камертону, эта проза уже в момент рождения как бы претендовала на то, чтобы стать классикой.
От дебюта Солженицына ведет свой отсчет литература о сталинских лагерях, представленная позднее Варламом Шаламовым и Евгенией Гинзбург, Юрием Домбровским и Анатолием Жигулиным, да и многими другими известными именами. Он родоначальник, он – исток.
Но и в творчестве самого Солженицына, ныне столь объемном и разнородном, эта маленькая повесть остается одной из высших, если не высшей точкой его подъема как бесстрашного художника и свободного творца.
Еще не умолкли толки, возбужденные появлением повести «Один день Ивана Денисовича», как автор опубликовал два новые свои рассказа «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» («Новый мир», 1963, № 1), а несколько месяцев спустя – рассказ «Для пользы дела» (1963, № 8). Примечательно, что писатель, заслуживший известность повестью, основанной на столь необычном для нашей литературе материале, не пожелал остаться певцом одной, хоть и столь значительной в высоком трагизме темы, а показал широту своих возможностей. В одном случае изобразил деревню, в другом – военные годы, в третьем – современную городскую среду, притом современную настолько, что в деятеле «волевого» типа Кнорозове, узнавали недавно застрелившегося, вследствие открывшегося обмана с перевыполнением планов по мясу и молоку, первого секретаря рязанского обкома Ларионова.
Три рассказа – и три мира, и все три разные.
Главная мысль «Матренина двора» (1959–1960) вряд ли может быть сведена к морали «не стоит село без праведника», провозглашенной в конце рассказа, сколь бы ни был велик, по разумению автора, дефицит праведничества в нашей земле. Конечно, житие безответной и безотказной Матрены, доживающей свой век в окружении колченогой кошки, снующих за обоями мышей и фикусов на окнах, напоминает притчу, но ею не исчерпывается.
Теперь, спустя четверть века после того, как мы впервые прочли «Матренин двор», еще виднее, какой это глубокий рассказ и как многое он вобрал в себя! Вместил и историю шекспировских страстей, любви и ревности двух братьев к Матрене. И нищенский быт русской обездоленной деревни 50-х годов. И судьбу спасающегося от шума городского мира недавнего лагерника Игнатьича, будто зализывающего в этом тихом уголке исконной России свои раны. И жадность, зло собственничества в чернобородом Фаддее и сестрах Матрены… Но, главное, саму деятельную, бескорыстную, всегда жившую для других в смутных понятиях какого-то долга и натерпевшуюся в невзгодах Матрену. Душевное пристрастие к ней рассказчика переплескивает, как через край чаши, через эти полные горестной сдержанности и мучительного сожаления страницы. Такого доброго, великодушного к людям рассказа, пожалуй, больше не будет у Солженицына. Не будет и столь сильно выраженного в слове и очень русского предпочтения «души» жизненным благам и материальному «добру».
Рассказ естественный, живорожденный был воспринят некоторыми читателями как очерк с натуры. Здесь все правда, и обманчиво наглядна канва, относящаяся к биографии автора. Но кто в силах расщепить эту органическую материю и указать, где кончается наблюдение и памятливость и начинается царство художественного воображения?
Рассказ этот не так художественно совершенен, как предыдущие, в нем слышнее публицистические ноты, и сама расстановка сил с положительным героем – партийным работником Грачиковым несколько традиционна. Но он ценен не одним тем, что в нем слышен живой гомон молодых голосов; в нем открыт социальный механизм того, как легко погубить любой энтузиазм, открывая дорогу цинизму. Каковы могут быть последствия того, что порыв хороших молодых людей разрушен, небрежно подмят подлинными распорядителями жизни – партийным и хозяйственным аппаратом, его гнетущей силой? Какова цена обмана, ударившего по душам в самой нежной их поре?
Приходится признать, что Солженицын еще вон когда увидел и проницательно указал, что, обманув энтузиазм молодежи раз-другой, мы вырастим поколение людей, ни во что не верящих и ничего не желающих. Не эти ли обманутые однажды хабалыгиными и кнорозовыми девочки и мальчики составили вялое, пассивное поколение, вошедшее в жизнь во времена так называемого «застоя»? Нарушение справедливости «для пользы дела» (Солженицын вывел на чистую воду самую ходкую фразу лицемеров, почти текстуально совпав с формулой Бор. Пильняка в рассказе 1937-го года «Заштат») больно отомстило за себя.