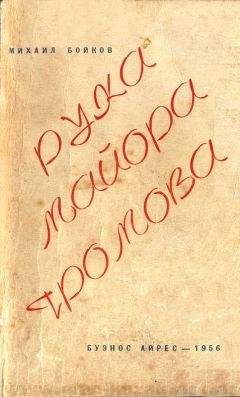Михаил Бойков - ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ ТЮРЬМЫ
Островерхов таскал меня за руку от стола к столу и от одной полки к другой, подробно и даже как-то сладострастно объясняя назначение вещей, собранных в этой жуткой комнате. Кравцов молча, с угрюмым равнодушием, ходил за нами по пятам…
На воле я иногда читал о страшных пытках и казнях в разных странах и в разные времена, но они были лишь бледными тенями того, что теперь я видел и слышал здесь…
"Лекцию" следователя прервал появившийся в дверях комнаты Бергер. Он попрежнему был одет в белый халат, а в руках держал кожаный чемоданчик, какие обычно имеют врачи для своих медицинских инструментов. Островерхов подошел к нему и заговорил вполголоса. До меня донеслись несколько его фраз:
— Делать маникюр не придется. Он уже готов. Вместо физического я применил к нему психологический метод воздействия.
— Какой именно? — вопросительно проржал человек в белом халате.
— Прочел ему коротенькую лекцию об этом, — указал Островерхой глазами на полки и шкафы. Бергер подмигнул ему и, с коротким ржаньем очень мало похожим на человеческий смех, заметил:
— Кусочек, так сказать, наглядной психологии, товарищ следователь.
— Подходящий кусочек, — подтвердил Островерхов. Дымчатые глаза Кравцова клочками тумана глянули на меня в упор. Он отрицательно покачал головой и возразил тихо-шелестящим голосом:
— Почти готов, но не совсем. Нужен еще нажим. Небольшой…
В этот момент, действительно, я был почти готов для любых "признаний". Комната пыток потрясла меня, придавила ужасом и сломила мою волю к сопротивлению. Еще один, самый ничтожный "метод физического воздействия", единственный удар или толчек и я подписал бы, какую угодно подсунутую мне следователем бумажку. Но слова Кравцова внезапно, помимо моего желания, вызвали у меня нечто вроде судороги сопротивления.
Островерхов подбежал ко мне и схватил меня за локоть.
— Ты готов признаться? Не правда-ли, дорогой? Я с ненавистью прохрипел ему в физиономию одно слово:
— Нет!
Он принялся ласково уговаривать меня:
— Сопротивление бесполезно, дорогой мой! Ведь все равно вы признаетесь! Зачем же тянуть?… Повернувшись к теломеханику, он спросил:
— Скажите, товарищ Кравцов, сколько человек выдержали эту… комнату?
Губы теломеханика прошептали медленно и еле слышно:
— Ни один… Здесь… в моем кабинете признаются или… умирают от разрыва сердца.
— Вот видите, — подхватил следователь. — Упорствовать нет смысла, мой милый. В последний раз советую вам подписать!
И опять я ответил:
— Нет!
Островерхов раздраженно плюнул на пол, махнул рукой и приказал:
— Товарищ врач! Приготовьте ваши инструменты! Товарищ теломеханик! Действуйте!
Глава 12 "МАНИКЮР"
Приказание Островерхова Кравцов выполнил мгновенно. Быстрыми и точно рассчитанными движениями он толкнул меня к одному из столов, прижал к его верхней доске мои руки своей широкой ладонью, а ногой подсунул под меня стул с высокой спинкой.
Не более полминуты потребовалось теломеханику, чтобы привязать меня к стулу и приковать мои руки к доске стола. Кравцов нажал одну из кнопок на столе и из отверстий настольной доски, по обе стороны кистей моих рук, выскочили половинки шести кольчатых браслетов. Он соединил их концами и браслеты прижали к гладкому полированному дереву мои руки ладонями вниз. Один браслет приковывал средние суставы четырех пальцев, другой — большой палец и тыльную сторону ладони, а третий — основание кисти. Затем теломеханик крепко прикрутил ремнями к стулу мои плечи, шею, локти и ноги. Эту операцию он произвел с такой быстротой, что я даже не успел подумать о сопротивлении. Прикованный к столу и привязанный к стулу я едва мог шевельнуться.
Стол был узок, не более полметра ширины. Концы моих пальцев на 2–3 сантиметра торчали с его противоположной от меня стороны.
В отличие от Кравцова, Бергер действовал с медлительной методичностью. Он медленно подошел к столу, поставил на него и раскрыл свой чемоданчик. Я заглянул туда и удивился тому, что… не боюсь. Увиденное мною должно было бы, казалось, привести меня в ужас, но я чувствовал только усталость, какое-то отупение и апатию ко всему. Мои нервы притупились от всего виденного и слышанного в комнате пыток.
Чемоданчик Бергера был полон наборов иголок, ввинченных в маленькие деревянные черенки. Были среди них очень тонкие, как волосинки, были толщиной в шляпную шпильку и, наконец, вроде граммофонных, с острием в виде лопаточки. Там же, в специальном гнезде для нее, находилась стеклянная спиртовка с фитилем.
Человек в белом халате извлек оттуда и зажег спиртовку и стал вынимать иглы одну за другой. Он брал не самые тонкие, но и не толстые, а среднего размера.
Перегнувшись через мое плечо, Островерхов жарко дышал мне в лицо и говорил слащаво-медовым голосом:
— Ну, давайте же признаваться, дорогой! Не ожидайте маникюра. Ведь вам будет очень больно… Ну? Ну?
Судорога сопротивления смешавшаяся с приступом апатии, еще не прошла у меня и я отрицательно покачал головой.
— Товарищ Бергер! Начинайте! — рявкнул над моим ухом следователь.
Врач не спеша приподнял фитиль спиртовки, смочил кусок ваты спиртом и аккуратно обтер ею каждый мой палец. Затем на огне спиртовки раскалил докрасна одну из иголок и вопросительно взглянул на Островерхова. Тот нетерпеливо кивнул головой. Бергер приподнял над столом мой указательный палец и медленно всунул иглу под его ноготь.
От невыносимой боли я дико взвизгнул и рванулся со стула, но ремни и браслеты крепко держали меня. Вторая игла впилась в мой средний палец. За нею последовали третья, четвертая, пятая…
Страшная режущая и обжигающая боль терзала мои пальцы. Но страшнее и отвратительнее боли был запах. В мои ноздри, как винтами ввинчивался запах моего горящего мяса. От этого противного запаха меня затошнило и я потерял сознание…
Очнулся я от ощущения холодных струй, текущих по моей голове и лицу. Это Кравцов поливал меня водой из графина.
За моею спиной раздался голос Островерхова. Сквозь его медовость прорывалось рычание ярости:
— Продолжайте, товарищ врач! Не жалейте его ногтей…
Снова, одна за другой, стали впиваться иглы в мои пальцы. Каждая из них уходила под ногти больше, чем на сантиметр. Ногти лопались и мясо под ними шипело. Бергер отвинчивал черенки от игл и аккуратно рядышком клал на стол.
Я выл, плакал и стонал от боли. Иглы торчали уже из всех моих пальцев. Островерхое медово-протяжно спрашивал:
— Н-ну? Будешь признаваться? Бу-дешь? Бу-дешь? Отвечать я не мог. Боль и запах моего печеного мяса лишили меня голоса. Я лишь с отчаянием молча утвердительно кивал головой. Наконец, из моей груди вырвалось рыдание:
— Буду! Буду!
Теперь-то я "дошел" окончательно. Единственное желание овладело мною: поскорее подписать все, что угодно, лишь бы избавиться от невыносимо-острой боли и тошнотворного запаха.
Склонившаяся надо мной физиономия Островерхова расплылась в широчайшую улыбку. Он медово-протяжно пропел:
— Наконец-то, дорогой мой! Давно бы так! Напрасно только мучили себя и нас!
И торопливо бросил моим палачам:
— Прекратить маникюр, товарищи!
Врач неторопливо начал вытаскивать иглы из-под моих ногтей. Это вызвало у меня новые приступы мучительной боли. Не выдержав ее, я вторично потерял сознание…
Холодная вода и приятное ощущение медленно уходящей из кистей моих рук боли привели меня в чувство. Под ногтями уже не было иголок. Человек в белом халате куском ваты, обмакнутым в спирт, старательно смазывал обезображенные концы моих пальцев. Они были черны от ожогов, ногти полопались и из ранок торчали кусочки воспаленного, обуглившегося мяса и сгустки темной запекшейся крови.
Кравцов расковал и развязал меня, а Островерхов, положив на стол передо мною несколько листов бумаги и "вечное перо", потребовал с ласковой повелительностью:
— Ну, подписывайте'! Скорее!
Что было написано на этих листах, я не мог разобрать. Мое лицо заливали слезы, смешанные с водой.
Следователь сунул мне в руку перо. Коснувшись его израненными пальцами, я застонал и скорчился от боли. Перо выпало из моей руки и покатилось по столу. Боль, впрочем, была не такой резкой, как раньше и, пожалуй, незначительным усилием воли я смог бы преодолеть ее, но в этот миг у меня в мозгу мелькнула мысль, показавшаяся мне спасительной:
"Симулировать. Использовать боль. Не подписывать".
Я ухватился за эту мысль и начал "симулировать" брал перо и со стонами, корчась и скрипя зубами, ронял его.
— Возьмите себя в руки, дорогой мой. Больше мужества, больше твердости! Одно небольшое усилие и вы сможете писать, — подбадривал меня Островерхое.
В ответ я стонал:
— О-о-ой, не могу! Вы искалечили меня! Руки, мои руки! Перо не держат… Дайте отдых моим пальцам, вылечите их и я подпишу все, что хотите.