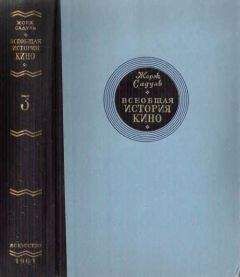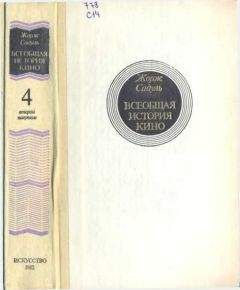Жорж Садуль - Всеобщая история кино. Том 6 (Кино в период войны 1939-1945)
«Улица пяти лун»
«Выстрел»
«Белый корабль»
«Альфа Тау»
«Четыре шага в облаках» В ролях: Адриана Бенетти, Джино Черви
«Тереза-Пятница» В ролях: Адриана Бенетти, Витторио Де Сика
«Тереза-Пятница»
Висконти объявил тогда себя сторонником антропоморфического кино, суть которого он определил следующим образом в своей статье «Что привело меня к творческой работе в кино»: «На творческую работу я смотрю как на деятельность живого человека среди людей. Я, разумеется, отношу это не только к «художественной сфере». Каждый, кто трудится, — созидает, и это — единственное условие существования.
Меня привела в кино потребность рассказывать историю живых людей, живущих среди вещей, а не историю вещей.
Кино, которое меня интересует, — это антропоморфическое кино. Я мог бы снимать фильм перед голой стеной, если бы знал, что она мне поможет лучше показать проявления подлинной человечности, я снимал бы актеров на фоне самой скупой декорации, чтобы они нашли эти проявления в себе и как можно лучше их выразили. Человеческое существо, его присутствие — единственное, что должно быть основой создаваемых образов… даже самое кратковременное отсутствие человека превращает вещь в неодушевленный предмет. Самые неприметные жесты и поступки человека, его походка, его волнения и проявления его инстинктов придают поэзию и трепет вещам, которые его окружают и обрамляют. Всякое иное решение проблемы мне кажется изменой действительности, развертывающейся перед нашими глазами, беспрерывно создающейся человеком и преобразовываемой…
..Я хотел бы поговорить также об актерах-непрофессионалах, которые обладают волшебным даром настоящей здоровой простоты. Но они также люди, лучшие из людей, потому что вышли из среды, не знающей компромиссов. Очень важно отыскивать таких людей и пробовать их в кино.
Режиссеры, эти искатели подземных родников, должны использовать их божественный дар, чтобы лучше выявлять качества актеров-профессионалов (и непрофессионалов)»[170].
Еще во время съемок «Одержимости» ассистент Висконти Антонио Пьетранджели писал по поводу этого фильма в «Чинема»:
«Одержимость» будет фильмом, в котором зритель увидит не принцев-консортов, не миллионеров, охваченных отвращением к жизни, а весь человеческий род без прикрас, изможденный, жадный, чувственный, ожесточенный, которого сделала таким повседневная борьба за существование, так же как удовлетворение своих неодолимых инстинктов…
Человеческие создания, в которых трепещет столь горестная правда, чувствуют себя неуверенно в стенах студии, они могут жить лишь среди настоящих деревьев, в деревнях, среди лугов и всего того, что составляет природу, — или в этих несчастных пригородах, где каждый камень, каждый переулок, каждый ошарпанный угол улицы, каждый двор шрамами на своей своеобразной физиономии рассказывают всю долгую историю повседневной борьбы человека. Такие устремления не выбираются, как галстук в шкафу, они свидетельствуют о полной зрелости сознания»[171].
Зрелость сознания была как раз тем, что характеризовало рождение первого неореалистического фильма в 20-й год фашизма. Оставить принцев-консортов и погрузиться в нищету народных кварталов — это было не экзотикой, а защитой простых людей, бедняков, которые каждый день борются за свое существование. В «Одержимости» неореализм появляется сразу со своим существенным — народным — характером. С этим фильмом, который знаменует собой начало новой эры, его киноискусства, итальянский народ утвердился на экране именно потому, что его повседневная борьба уже приняла форму неудержимой подпольной борьбы против фашизма и войны.
Это пробуждение сознания, впрочем, не проходило гладко. Следуя классической механике американского «Кодекса благопристойности», фашистская цензура примешивала к своим политическим запретам запреты моральные, сущность которых тот же Пьетранджели определил в 1948 году следующим образом:
«Всякая сцена убийства, самоубийства, адюльтера или обольщения, кражи или должностного преступления запрещалась, так же как показ чиновников, военных, жандармов, священников или полицейских. Мы уж не говорим о проблемах политических, социальных и сексуальных, так как для итальянского кино голод и безработица, так же как проститутка или жители трущоб, просто не существовали. В конечном счете в результате вмешательства нацистов показ какого-либо духовного лица, даже в самом лучшем свете, был запрещен на итальянских экранах. Дезертир из «Набережной туманов» стал невинным отпускником, и публика, смотря фильм, все время спрашивала, почему у него всегда такой беспокойный вид».
Восстание итальянских интеллигентов против социальных запретов было, таким образом, связано с бунтом против пуританизма. И не удивительно что, появившись на экранах, фильм подвергся нападкам за свою «аморальность» и за свою мнимую «французоманию»[172].
По-видимому, остановиться на романе Джеймса Кейна Висконти побудило сходство его драматической линии с «Терезой Ракэн» Золя, из которой Нино Мартольо в 1915 году сделал шедевр итальянского веристского кино. Центром драмы была бензозаправочная станция, которую содержал человек в годах (Хуан де Ланда), женатый на молодой женщине (Клара Каламаи)[173].
Однажды хозяин привел в свой дом странствующего безработного (Массимо Джиротти). Молодые люди, полюбив друг друга, решили убить мужа и осуществили свой план, не вызвав никакого подозрения. Молодая женщина затем погибла в результате несчастного случая, а ее любовник, обвиненный в том, что убил ее, был осужден за преступление, которого он не совершал.
Если бы Висконти сам не вложил необходимую часть средств, постановка фильма, по всей вероятности, никогда не была бы предпринята. Но когда фильм был закончен, фашистская цензура его запретила. Кинематографическая общественность протестовала против этого решения, и, для того чтобы прекратить разногласия, не оставалось ничего, как показать фильм самому Муссолини. Картина, в которой дуче не увидел никаких козней, была в покалеченном варианте разрешена в начале 1943 года, но фактически на экранах наиболее крупных итальянских городов не демонстрировалась. О том, что принесла «Одержимость» итальянскому кино, очень хорошо сказал в 1948 году Антонио Пьетранджели[174]:
«Перед бензиновой колонкой, возникшей на дороге как пограничный столб, останавливается длинный травеллинг в духе Ренуара. Неожиданный лирический перелом, столь внезапный, что он прерывает у зрителя дыхание, — камера[175] взлетает, подчеркивая большую значимость вводимого в рассказ нового героя, которого мы сразу принимаем, персонажа еще без лица, в рваной майке на загорелом теле, с утомленной и колеблющейся походкой человека, который расправляет ноги после долгого спанья в грузовике. Как бродячая собака, но твердый и решительный, этот персонаж, еще без имени, входит в действие, в жизнь, но не как олицетворение одержимости, а как первенец итальянского неореализма.
Рожденное в долгих размышлениях, из смутного стремления к правде, истоки которого восходят к французскому реализму, это произведение, несмотря на американизированный сюжет, живет своей собственной жизнью. Все это пришло из неповторимой итальянской действительности, влекущей, зовущей, пугающей. Бьющая ключом правда стремительно хлынула в раскрывшуюся наконец для нее пробоину, сквозь которую виднелись обширные горизонты: с этих пор итальянское стало интересным не только для итальянцев, но и для всего мира. Эта дорога стала столбовой дорогой искусства: с «Одержимостью» жестокая действительность внезапно вторглась в наше кино.
Феррара, ее площади и улицы, кишащие народом или пустынные, Анкона и ее ярмарки, собор Сан-Чириако, По и ее песчаные берега, пейзаж, изборожденный сетью дорог, по которым движутся автомобили и люди… Там для некоторых заправочная станция может стать концом пути или дорогой в будущее; постоялый двор, затерянная харчевня могут оказаться для человека из народа и адом и раем.
На этом фоне силуэтно вырисовываются со своей неисправимой экзальтированной манерой говорить уличные торговцы и рабочие, проститутки и «мальчики» из харчевни, в существовании которых, таком близком к природе, много простодушного, свойственного народу нерасчетливого расходования сил, неоценимого благородства, необоримых инстинктов могучей любви пролетария, много простого гнева и простых физических потребностей. Это чистые создания, безгрешные даже в ореоле зла, страсти, предательства или преступления; их окружает и покровительствует им настоящая жалость, которая искупает их отчаянные грехи. Но эта жалость — не то сострадание, которое унижает бедность до безутешности, — это сострадание пылкое, горячее, убежденное, возникшее из человеческой симпатии и понимания, искрящееся в скорбных и изнуряющих поисках истины.