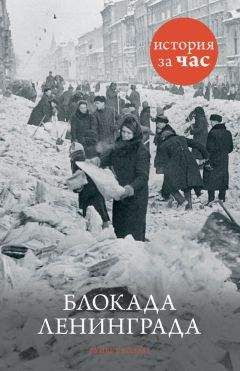Николай Михайловский - Штормовая пора
— Э, милый, вы отстали от жизни, — продолжал, улыбаясь, Цехновицер, — у нас на флоте есть свой командарм. Он один посвящен во все тайны военного искусства.
— Кто же такой?
— Писатель Всеволод Вишневский.
Я знал, что Всеволод Витальевич в первые дни войны приехал сюда из Москвы, и обрадовался возможности повидаться с ним.
Цехновицер повел меня в Политуправление флота, на третий этаж, и постучал в дверь служебного кабинета. На стук откликнулся спокойный, неторопливый голос: «Да, войдите».
Вишневский стоял у карты, висевшей на стене, в руках держал газету и, судя по всему, изучал утреннюю сводку Совинформбюро.
Он встретил нас сухо. Впрочем, это было характерно для него. Вся бурная и поистине неукротимая энергия, которой он жил, скрывалась где-то в тайниках его души и обнаруживалась лишь в тот момент, когда он поднимался на трибуну. А в обычной обстановке он казался нелюдимым, замкнутым, говорил тихо, даже застенчиво и всегда был погружен в раздумье. Но как это ни странно, даже когда он молчал, это был прекрасный собеседник: один взгляд, улыбка на лице подчас выражали значительно больше, чем слова.
Я смотрел на грудь Вишневского с орденами Ленина, Красного Знамени и «Знак Почета». В ту пору было редкостью встретить человека, имеющего такие высокие награды.
— Вы смотрите на карту, а не на ордена, — дружески-повелительным тоном сказал мне Цехновицер и обратился к Вишневскому:
— Всеволод Витальевич, что у нас нового?
Вишневский, любивший информировать, объяснять, «вводить в обстановку», показал нам на карте, где проходит линия фронта, сколько километров немецкие войска прошли за последние сутки и за истекшую неделю. Он сравнивал, в какие дни они продвигались быстрее, в какие медленнее, и делал при этом собственные выводы.
Мы вернулись в зал и долго говорили о Вишневском, вспоминали его пьесу «Оптимистическая трагедия», фильм «Мы из Кронштадта», и Цехновицер верно заметил — при всем том, что Вишневский очень талантливый и самобытный писатель, у него противоречивый характер, который не так просто понять.
Потом Цехновицер вспомнил, что у него сегодня лекция, и в раздумье стал расхаживать по залу. Это называлось у него «собраться с мыслями». Он терпеть не мог выступать по заранее написанному тексту.
Вечером зал, служивший нам спальней, заполнили моряки, пришедшие с кораблей и далеких участков фронта, — командиры, политработники, пропагандисты. На трибуне появилась высокая худощавая фигура Цехновицера. Взяв в руки длинную указку, он начал лекцию. На какой-то миг мне показалось, что я нахожусь в университетской аудитории, но только на миг, — разумеется, сегодня он говорил не о литературе.
Через всю карту тянулись флажки, обозначавшие линию фронта от Черного до Балтийского моря. Гигантский вал гитлеровской армии с каждым днем все больше углублялся в нашу страну. С объяснения этого факта и начал Цехновицер свою лекцию. Говорил он страстно, убежденно. Это было живое слово пропагандиста, доходившее до самого сердца слушателей.
Лекция кончена, но долго еще стоял Цехновицер в толпе, курил и беседовал со слушателями. Наконец все разошлись — было поздно.
Перед тем как лечь спать, мы вышли на улицу, охваченную ночной тишиной. С моря доносились раскаты артиллерии.
— Эх, жаль, после гражданской войны мало занимался военным делом, — говорил Орест Вениаминович. — Будь я крепче подкован — в тысячу раз полезнее был бы на фронте.
Неожиданно на нас надвинулось несколько теней, и мы услышали окрики:
— Стой! Пропуск!
Синий свет фонарика упал на наши лица. После обычной проверки документов послышался удивленный и обрадованный возглас:
— А, товарищ профессор! Вас-то мы знаем. Вы у нас выступали.
Мы пошли дальше. Ночная встреча с патрульными, для которых Цехновицер был старым знакомым и желанным лектором, — не случайный эпизод. Скоро я убедился, что «товарища профессора» ждали везде. Он был популярен на кораблях и в частях Балтики. Его острый ум, широкие знания и тонкий юмор особенно ценили моряки. Никогда он не повторялся. Об одних и тех же вещах каждый раз умел сказать по-новому.
Еще до войны, в Ленинграде, мне иной раз приходилось слышать такое мнение о Цехновицере: «Человек талантливый, но… — тут мой собеседник недоумевающе подергивал плечами, — очень уж беспокойный у него характер».
Да, беспокойство было одной из характерных черт Цехновицера — беспокойство за судьбу каждого порученного дела.
Он умел ценить то, что ему дала Советская власть, и в благодарность отдавался труду, творчеству весь без остатка и в этом видел смысл своей жизни.
Гражданскую войну прошел рядовым солдатом. Интерес к литературе зародился у него еще в окопах, уже там он мечтал об учебе. В потертой шинели, в шлеме и обмотках приехал первый раз в Ленинград. Весь его несложный багаж умещался в вещевом мешке. Один крупный литературовед, к которому прямо с вокзала явился Цехновицер, искренне удивился, когда красноармеец вместе с фронтовыми документами извлек из мешка «Божественную комедию» Данте.
Приехав первый раз в незнакомый город, Цехновицер поселился в зале с позолоченной отделкой, в одном из бывших барских особняков на Неве, недалеко от памятника Петру I. Прежде чем обзавестись самыми необходимыми вещами, он начал приобретать книги. Библиотека была первым имуществом, которое появилось в его квартире. Переплетчики стали завсегдатаями его дома. Он любил и холил книги, точно живые существа. В самые трудные времена выискивался где-то добротный коленкор, и каждая новая книжечка переплеталась. Перед войной его библиотека насчитывала многие тысячи томов различной литературы на французском, немецком, английском и итальянском языках. Этими четырьмя языками профессор Цехновицер владел свободно, и книги Франса, Золя, Роллана, Гете, Гейне, Шоу он читал в подлинниках.
У Цехновицера была жажда к познанию всего, что его окружало.
За короткое время он успел увидеть самое интересное, что было в Таллине, и говорил о городе со свойственной ему восторженностью:
— Вот где действительно на каждом шагу живая история.
Как только выдавался свободный час, он водил меня по историческим местам Таллина, что были поблизости от нашей «штаб-квартиры».
Мы ездили в трамвае на побережье к знаменитому памятнику «Русалка» и долго рассматривали бронзовую фигуру ангела с крестом в руке. Этот памятник был сооружен на добровольные пожертвования населения морякам русской броненосной лодки «Русалка», трагически погибшей в 1893 году во время жестокого шторма.
Цехновицер показывал мне живописный парк Кадриорг и почерневший от времени домик Петра I со скромной обстановкой: круглыми зеркалами, широкой дубовой кроватью под истлевшим балдахином, бюро красного дерева, высокими стульями с искусной резьбой на спинках. Живя здесь, Петр наблюдал за строительством крупнейшей для своего времени ревельской гавани. Его руками были посажены многие деревья, образовавшие теперь густые аллеи, сквозь листву которых не могли пробиться даже лучи солнца.
Мы поднимались на Вышгород — старинную часть города, обнесенную крепостной стеной, — и бродили по узким средневековым улицам.
— Зайдемте сюда, — предложил однажды Цехновицер, показывая на чернеющий, точно горное ущелье, вход в старинный храм «Томкирха», который стоит более шести веков. — Тут невредно побывать всем нашим товарищам, — добавил он.
Нас встретил хранитель кирхи, сухой, сгорбившийся эстонец, немного говоривший по-русски. Проведя нас в глубь храма к массивным мраморным гробницам, он объяснил, что здесь покоятся останки знаменитых русских флотоводцев и мореплавателей — адмиралов Крузенштерна и Грейга.
— Господин Крузенштерн вместе со своей супругой — наши самые молодые покойники, — сказал старичок. — Они похоронены всего два века назад, а есть мумии, которым триста-четыреста лет.
Мумии? Меня это заинтересовало, и я спросил, можно ли их посмотреть.
— Нет, сейчас нельзя, — ответил хранитель, — гробницы вскрываются очень редко. При мне их проверяли. Мумии сохранились хорошо. Тело и одежда давно окаменели, только замшевые перчатки на руках мадам Крузенштерн как новые…
Дома, разговаривая с Цехновицером обо всем виденном, я думал о том, что, несмотря на войну и на золотые нашивки полкового комиссара он все же остался сугубо гражданским человеком, ученым, и в такие минуты я вспоминал увлекательные лекции Цехновицера в университете, которые приходили слушать и мы, студенты Института журналистики.
Страстные диспуты нередко из университетской аудитории переносились на другую сторону Невы, в квартиру профессора. В его кабинете, что называется, негде было яблоку упасть. На широкой тахте, в креслах и просто на полу размещались юные друзья Цехновицера. В эти часы низкий голос его гремел, прерываемый взрывами хохота. По задору и темпераменту профессор мало отличался от своих молодых университетских друзей.