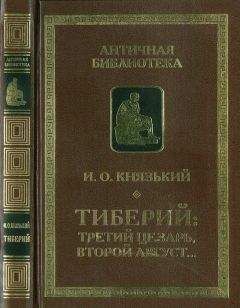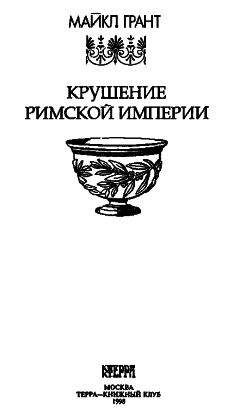Дмитрий Мамин-Сибиряк - Сестры. Очерк из жизни Среднего Урала
— Сколько ты получаешь?
— Тридцать семь рублев с полтиною.
— И говоришь: доволен?
Мухоедов выпил рюмку, пожевал сухую корочку хлеба, круто посыпанную солью, и со своей безобидной улыбкой проговорил:
— И здесь, братику, не без препятствий… Есть здесь некоторый немец-управитель, мы его зовем Слава-богу, потому что он так называет Ивана Богослова… Так вот этот самый Слава-богу и держит меня в черном теле шестой год, на сиротском положении, потому что опять я кланяться не умею, ну, значит, и не могу никак перелезть через этого пархатого немца. Видал, как на палке тянутся, так и мы с немцем: он думает, что «дойму я тебя, будешь мне кланяться», а я говорю: «Врешь, Мухоедов не будет колбасе кланяться…» Раз я стою у заводской конторы, Слава-богу идет мимо, по дороге, я и кричу ему, чтобы он дошел до меня, а он мне: «Клэб за брюху не будит пошел…» Везде эти проклятые поклоны нужны, вот я и остался здесь, по крайней мере, думаю, нет этого формализма, да и народ здесь славный, привык я, вот и копчу вместе с другими небо-то… Я тебя завтра сведу к Гавриле, нашему механику, вот, батенька, голова так голова, и характер, железный характер. До всего своим умом дошел, по-сибирски это называют самородком, а душа… да вот сам увидишь. Вечером у него будет спевка, кстати, послушаем наших певчих, порядочно поют. Я у Гаврилы живмя живу, свой человек; жена у него умная барынька и тоже золотая душа. — Мухоедов выпил еще рюмку. — Так вот, сравнишь себя с таким самородком и совестно: ведь пробил же себе человек дорогу, единственно своим лбом пробил и без поклонов, а я ведь с кандидатским дипломом сижу у моря и жду погоды… Усилие нужно сделать, говорит какая-то дама в одном романе Диккенса, вот я и проделываю это усилие шестой год. Изживем же мы когда-нибудь нашу колбасу…
— Одну колбасу изживете, вышлют другую.
— Может быть, тогда опять будем отсиживаться, ведь на этом вся наша русская история выстроена, ничем не сморишь.
Против моего ожидания, Фатевна «расступилась», как выразился Мухоедов, и угостила нас пельменями, этим специально сибирским кушаньем; она, впрочем, вознаградила себя за труды тем, что довольно прозрачно напросилась на рюмку водки, которую и выпила с завидным аппетитом.
— В кои-то веки и мы гостя дождались, — говорила Фатевна, утирая губы горстью и показывая свои мелкие гнилые зубы, — а то, статошное ли дело, живет шестой год жилец, и гостей не бывало ни единого разу, только одни письмы да письмы, а што в них толку-то? Жалованье-то Епинет Петрович получит, — уже обращаясь ко мне, толковала Фатевна, — сейчас двадцать рублей отсылает, а на семнадцать с полтиной сам и жует месяц-то… А какие это деньги по нонешнему времю?
— Чего ты брешешь на ветер-то, Фатевна? — угрюмо заговорил Мухоедов. — Никаких денег я не посылаю…
— А вот и врешь… Мне писарь волостной сказывал: «Какой у тебя, говорит, жилец обстоятельный, кажинный, говорит, месяц двадцать рублев для своих родителев посылает».
Повернувшись «стопочкой», Фатевна выплыла в двери; Мухоедов после нескольких рюмок водки начал заметно хмелеть, делаясь все тише и тише. Водка на него всегда действовала каким-то успокаивающим образом, и он, когда мы жили вместе в Казани, иногда ни с того ни с сего на сон грядущий выпивал стакан водки и сейчас же засыпал мертвым сном. Пока я рассказывал Мухоедову свою историю, он все время дремал и оживился только тогда, когда речь зашла о нынешней молодежи, по отношению к которой мы были уже «отцами», потому что учились в университете в горячую пору начала шестидесятых годов.
— Знаешь, что я иногда думаю, — говорил Мухоедов, улыбаясь немного печальной улыбкой, — мне кажется, что мы отстали, нас обошло другое поколение… Да… Назначили нам с год назад в Пеньковку нового доктора из Петербурга; приезжает, парень еще молодой и женат тоже на докторе, жена и значок золотой имеет: «Женщина-врач». Хорошо. Познакомились как-то — ничего, ребята славные и начитанные, особенно врачиха, по всяким наукам настегалась, так учеными терминами и сыплет. Мы с Гаврилой обрадовались им, как христову дню, и сейчас всю душу принялись выворачивать, исповедались, что вот после многих препятствий и даже неудач сподобились открыть ссудо-сберегательное товарищество и намерены устроить ремесленную школу и всякое прочее. Он, врач-то, все слушает и все поддакивает: «Да, да, говорит, хорошо, очень хорошо, очень хорошо», как малым ребятам, а врачиха-то не вытерпела, вздернула своей мордочкой да как отрежет нам с Гаврилой: «Все это паллиативы…» И он тоже: «Это, говорит, действительно паллиативы», а врачиха и давай нас обстригать с Гаврилой, так отделала, что небу жарко, а в заключение улыбнулась и прибавила: «Большие вы идеалисты, господа!» Я и рот растворил, а Гаврила мой справился и говорит: «Ничего, мы останемся идеалистами…» Так мы и остались с Гаврилой и совсем разошлись с современным поколением: они сами по себе, а мы сами по себе. Только проходит некоторое время, влетает ко мне Фатевна и начинает меня костерить всяческим манером, главное за то, что я живу у ней шестой год, а расколотого гроша не накопил. Главное, даже в амбицию вломилась, потому могут подумать на нее, что она мои деньги ворует… «Белены объелась баба, — думаю про себя, — что ей за дело до моих денег», а она так и наступает, потом, конечно, и проболталась. Видишь, она пронюхала, что наши врачи где-то купили пять билетов внутреннего с выигрышем займа, вот ей это и показалось обидно, что не успели люди прожить без году неделю, а уж и билетами обзаводятся, а у ней жилец служит шестой год и ни одного билета не купил. Рассердился я тогда на старуху, крепко обругал и даже выгнал, это у нас входит в наш modus vivendi[1] и в строку не ставится; а самому так-то горько-горько сделалось, вот, мол, где не паллиативы-то, раздуй вас горой… Грешный человек, не люблю про ближнего худое слово говорить, а тут не стерпел… Процентные бумаги!.. Тьфу! К чему было и огород городить, коли на то пошло…
В комнате было страшно накурено, дым волнами стоял до самого потолка; от выпитого вина и пропитанного табачным дымом воздуха голова у меня начинала кружиться, а Мухоедов с побледневшим лицом по-прежнему сидел на диване, то принимаясь что-нибудь рассказывать с лихорадочной поспешностью, то опять смолкал и совершенно неподвижно смотрел куда-нибудь в одну точку. Сальный огарок в позеленевшем, давно не чищенном подсвечнике освещал комнату тусклым красноватым светом; я растворил окно на пруд, и мы сели к нему, я на стул, Мухоедов на подоконнике. Майская чудная ночь смотрела в окно своим мягким душистым сумраком и тысячью тысяч своих звезд отражалась в расстилавшейся перед нашими глазами, точно застывшей поверхности небольшого заводского пруда; где-то далеко-далеко лаяла собака, обрывками доносилась далекая песня, слышался глухой гул со стороны заводской фабрики, точно там шевелилось какое-то скованное по рукам и ногам чудовище, — все эти неясные отрывистые звуки чутко отзывались в дремлющем воздухе и ползли в нашу комнату вместе с холодной струей ночного воздуха, веявшего на нас со стороны пруда. В дальнем конце пруда чуть виднелась темная линия далекого леса, зубчатой стеной встававшего из белого тумана, который волнами ползал около берегов; полный месяц стоял посредине неба и озарял всю картину серебристым светом, ложившимся по воде длинными блестящими полосами. Несколько доменных печей, которые стояли у самой плотины, время от времени выбрасывали длинные языки красного пламени и целые снопы ярких искр, рассыпавшихся кругом золотым дождем; несколько черных высоких труб выпускали густые клубы черного дыма, тихо подымавшегося кверху, точно это курились какие-то гигантские сигары. Мы с Мухоедовым долго и совершенно безмолвно любовались этой оригинальной картиной, в которой свет и тени создавали причудливые образы и нагоняли в душу целый рой полузабытых воспоминаний, знакомых лиц, давно пережитых желаний и юношеских грез; Мухоедов сидел с опущенной головой, длинные волосы падали ему на лоб, папироса давно потухла, но он точно боялся пошевелиться, чтобы не нарушить обаяния весенней ночи.
— А ведь врачиха-то, пожалуй, правду сказала, что мы идеалисты, — заговорил, наконец, Мухоедов, не поднимая головы, — идеалисты мы и есть, никаких у нас хватательных и приобретательных инстинктов не оказалось на роскошном пиру действительности… Помнишь, как мы увлекались тогда естественными науками, женским вопросом, просвещением народа с высоты нашего тогдашнего величия? Помнишь, как мы читали Белинского, Добролюбова, как встречали освобождение от крепостной зависимости и чего ждали от новых судов и земских учреждений… Вот теперь все это пришло, и мы оказались за штатом… Эта врачиха-то что проповедует: не нам, говорит, учить народ, а нам учиться у него… Как это тебе нравится? А мы-то мечтали просветить это темное царство, а теперь оказывается, что нам приходится искать просвещения в этом царстве… Tempora mutantur…[2] Теперь, братику, и сам Базаров мальчишкой оказывается. Помнишь, как он выразился про Николая Петровича Кирсанова, что его песенка спета, теперь про нас то же говорят… Эх, давай выпьем горилки, сердцу легче станет!