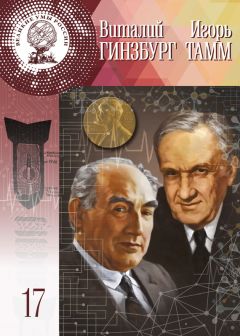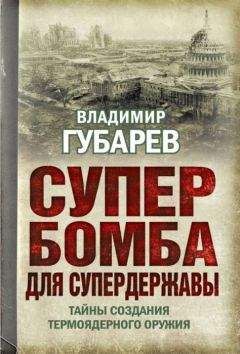Владимир Губарев - От сохи до ядерной дубины
– Все-таки вернемся в военные годы…
– Очень суровое и тяжелое время. И мне пришлось на год прервать учебу. Когда немцы подошли к Калинину совсем близко, мы бежали. Бросили все. Мама с тремя детьми. Старшая сестра заболела туберкулезом и умерла в 43-м году, а мы с младшей сестренкой выдержали и голод и холод – выросли все-таки. А убежали мы на север Калининской области. Кстати, в тридцати километрах от родины моих предков находится атомная станция. Это в районе Удомли… Так что все мы вышли из народа, и я благодарен той стране, что была, потому что она дала мне возможность получить прекрасное образование. Что ни говорите, а сейчас это намного сложнее…
– Но почему именно физик-ядерщик?
– Учился я хорошо, а потому имел право выбрать… В Никеле закончил школу. А тогда был недобор в военные училища, и нас, выпускников, пригласили в райком партии, чтобы посоветовать идти в военные. Но я сразу же отказался, мол, хочу заниматься физикой. За меня заступились школьные учителя… Поехал в Москву. Мой приятель посоветовал поступать в Механический институт…
– Нынешний Инженерно-физический?
– Тогда из-за секретности – «Механический»… Кстати, меня радует, что в нынешнем МИФИ конкурс два-три человека на место. Значит, физика притягивает молодежь, и это отрадно. Думаю, ясно каждому молодому человеку, который приходит в МИФИ, – такое образование позволяет твердо стоять в жизни на ногах!
– И тогда это определило выбор?
– Не совсем. Что меня прельстило? Прежде всего, стипендия – она была в этом вузе вдвое выше, чем в других! У меня тогда был отчим, а потому надо было быстрее становится самостоятельным, да и помогать нужно было семье… Вот и бегали мы на Павелецкую-товарную разгружать вагоны, чтобы подработать немного… Стипендия сразу же была 450 рублей. Если перевести на нынешние деньги, то как раз прожиточный минимум – стипендии хватало на жизнь. Даже кое-что покупал себе раз в полгода – то рубашку, то штаны. В общем, вполне самостоятельной личностью стал, когда поступил в Механический…
– А физика?
– Учился я на «отлично», и на третьем курсе меня отобрали в теоретики. Нас было несколько человек. Дипломную работу я уже делал в Арзамасе-16. Приехал в институт Зельдович и взял меня к себе. В Арзамас-16 я поехал с удовольствием: на третьем курсе я женился, потом родился сын, и мы втроем жили на шести квадратных метрах. На «Объекте» же мне сразу предоставили комнату в двухкомнатной квартире. Она была целых 16 метров… Да и зарплата была 140 рублей, нет – в тех деньгах тысяча четыреста…
– Почему Зельдович приехал в институт?
– Он часто бывал в МИФИ. Со всеми выпускниками-теоретиками знакомился. Двух-трех человек обязательно забирал к себе. Правда, из моего выпуска взял только меня. Так я попал в сектор Зельдовича на «Объекте».
– И чем занимались?
– Диплом я уже писал о сжатии сверхмалых масс. Проще говоря: исследовались малые массы урана, плутония с целью перевода их в критическое состояние, то есть шел поиск принципиально новых методов создания ядерных зарядов… Это были 57-й и 58-й годы.
– Было впечатление, что вы держите в руках нечто очень могучее?
– Такое ощущение впервые появилось, когда я увидел воздушное ядерное испытание. А потом и подземные взрывы, к которым имел прямое отношение. И, естественно, каждая удача коллектива, в котором я работал, возвышала, придавала уверенность, ведь мы вырывали очередную частичку тайны у Природы. Были, конечно, и неудачи, но возвышал именно успех. Это торжество человеческого разума, который одерживает победу! Каждый взрыв был сам по себе уникален – не только в постановке задачи, по диагностике, но и по физической схеме, которая применялось в этом ядерном боеприпасе. Для разных целей делались такие «изделия», в том числе и для мирного использования, но все эти боеприпасы не повторяли друг друга. Сами по себе эти «изделия» – очень тонкие произведения техники, они реагируют на малейшие изменения, которые появляются в технологии или материалах, а потому требовалась полная концентрация сил… Ну а когда все получается, совсем иное чувство. А мы уже узнавали об успехе «по ногам», то есть по характеру движения тверди. Такое впечатление, будто с берега в лодку прыгаешь… Так что мощность мы сразу определяли: оправдались наши надежды или нет. Да, вот, говорят, нужны супер ЭВМ, новые машины и так далее. Конечно, они нужны и полезны, но все, что заложишь в ЭВМ, то и получишь. Просто машина позволяет определять что-то более точно и быстро, но принципиально нового на ней не получишь. Тут уж и «ноги» нужны, да и «голова», и, естественно, нестандартность мышления. Так что когда услышите, что всё в оружии можно рассчитать на ЭВМ, не верьте!..
– У вашего учителя вообще их не было! Я имею в виду Якова Борисовича Зельдовича. Кстати, каким он был?
– Замечательный! Это был очень общительный человек, с нами на «ты», как с коллегами. Никакого начальственного тона… Более того, многие, и я в том числе, занимали у него деньги… Правда, он следил, чтобы возвращали вовремя… Он был великолепным ученым, хотя многое в нем меня поражало. В МИФИ всегда была фундаментальная подготовка. Я сдавал экзамены, к примеру, академику Ландау. Приезжал к нему на Воробьевы горы, где он жил в Институте физпроблем. Он давал задание и уходил. В кабинете – множество книг, не только специальных, но и художественных. Я запомнил два тома «Угрюм-реки» – они выделялись обложками… Так вот, этот факт говорит о том, как готовили тогда специалистов в физических институтах. Иногда прибегал в сектор Зельдович и воодушевленно говорил, как можно решить ту или иную задачу. Но вскоре оказывалось, что этот метод уже хорошо известен – мы с ним познакомились в институте, а для Зельдовича он казался внове… И меня удивляло: как это членкор Зельдович (академиком он станет позже) не знает, в общем-то, простых вещей. И двойственное чувство возникало к Якову Борисовичу – с одной стороны, он великий ученый, а с другой – не постиг таких простых уравнений, которые знакомы каждому выпускнику МИФИ… Но кругозор в физике у него был широчайший, и это позволяло ему на любую проблему взглянуть комплексно и глубже других.
– А Харитон?
– Экспериментальная физика. Здесь он был великолепен, и это позволяло получить великолепные результаты. Он умел глядеть шире, чем другие, и чувствовал главные направления в работе… Кстати, Зельдович – чуть не забыл сказать! – всегда был окружен молодежью. Он любил рассказывать и слушать. А вот Андрей Дмитриевич Сахаров был замкнут, с молодежью общался мало.
– Как вы взаимодействовали – ведь, как известно, был «сектор Зельдовича» и «сектор Сахарова»? Казалось бы, конкуренты…
– Мы работали на одном этаже. Разделение мы только чувствовали во время выдачи зарплаты – просто разные ведомости были, а фактически работали вместе. Впрочем, негласно разделение все-таки существовало: сектор Зельдовича занимался «первичным узлом», то есть ядерным зарядом, а Андрей Дмитриевич – водородными зарядами… Но потом и тут возник «перехлест». В частности, группа молодых теоретиков – нас было четверо – сумела создать новый тип оружия с очень высокими удельными характеристиками, то есть мы тогда догнали американцев. До этого было около тридцати воздушных испытаний под руководством Зельдовича и Сахарова, но ничего не получалось.
– Почему?
– Я считаю так: всему свое время! Молодые впитывают опыт и знания старшего поколения и выходят на новый уровень. Только в этом случае появляется шанс… Та атмосфера, обстановка на «Объекте» позволяла быстро расти молодым. И не только на работе было общение, но и вечерами, и на волейбольной площадке, и за шахматной доской.
– От того времени именно такое осталось впечатление?
– Самое прекрасное! Могу сказать, что я прикоснулся тогда к фундаментальным работам, к большой физике, к настоящей науке. Казалось бы, речь шла только о создании атомного и водородного оружия, но это не совсем так. Здесь, на «Объекте», я понял самое важное: как абстрактная наука превращается в реальность, как возникает мостик между фундаментальными исследованиями и жизнью. Это необычайно важно.
– Итак, как ученый вы сформировались в то время и именно в Арзамасе-16?
– Безусловно. Арзамас-16 и Челябинск-70 – это бесценный научный потенциал России. Будь я где-то в другом месте, вероятнее всего, я не смог бы работать в науке на таком высоком уровне. «Планку» физики в этих научных центрах держали очень высоко.
– Это все-таки заслуга научного руководителя «Объекта»?
– Всех, кто работал в те годы в Арзамасе-16. Юлий Борисович Харитон был все-таки отдален от нас. Он больше общался с Сахаровым, Зельдовичем, другими физиками старшего поколения. Он внимательно прислушивался к мнению теоретиков, в том числе и молодых. Конечно, на совещаниях у него я бывал очень много раз. Особенно когда начались «наши» проекты. Создавался коллектив математиков, физиков-экспериментаторов в области газовой динамики. Ну а во главе стоял теоретик, чью идею эта группа осуществляла. Естественно, он и отвечал за успех работы, но особенно сильно и строго – за неудачу.