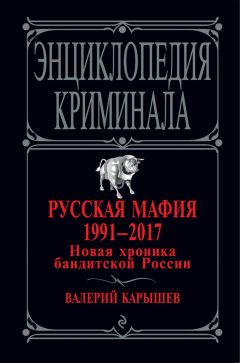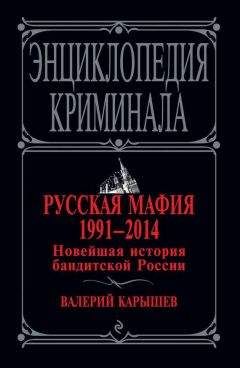Джавахарлал Неру - Открытие Индии
Перемены в Индии столь же знаменательны. Здесь, как и везде, имеются «государственные деятели», цепляющиеся за подол правительства и, как эхо, повторяющие мнения, которые, по их представлению, будут одобрены теми, чьих милостей они постоянно домогаются. Было время, и не так давно, когда они восхваляли Гитлера и Муссолини, объявляя их образцом для подражания, и на все лады поносили Советский Союз. Теперь не то, ибо направление ветра изменилось. Они — высокопоставленные правительственные и государственные чиновники, и они во всеуслышание заявляют о своих антифашистских и антинацистских взглядах и, хотя и приглушенным голосом, говорят даже о демократии как о чем то желанном, но далеком. Я часто спрашиваю себя, как бы они поступили, если бы события приняли иной оборот, хотя, впрочем, особенно тут гадать не приходится: они встретили бы с цветами и приветственными адресами каждого, в чьих бы руках ни оказалась власть.
На протяжении многих довоенных лет ум мой был поглощен грядущей войной. Я думал о ней, говорил о ней, писал о ней и морально подготавливал себя к ней. Я хотел, чтобы Индия приняла энергичное и активное участие в великом конфликте, ибо я считал, что в нем на карту будут поставлены высокие принципы и что результатом этого конфликта явятся великие революционные перемены в Индии и во всем мире. В то время я не видел непосредственной угрозы для Индии, какой-либо вероятности непосредственного вторжения. Тем не менее я хотел, чтобы Индия внесла в войну свой полный вклад. Однако я был убежден, что она будет в состоянии это сделать лишь в качестве свободной и равноправной страны.
Такова была позиция Национального конгресса, той крупной организации в Индии, которая на протяжении всех этих лет была последовательно антифашистской и антинацистской, точно так же как и антиимпериалистической. Национальный конгресс стоял за республиканскую Испанию, за Чехословакию и неизменно — за Китай.
И вот прошло уже около двух лет с тех пор, как Конгресс объявлен вне закона и ему запрещена какая бы то ни было деятельность. Конгресс в тюрьме. Его члены — выборные депутаты провинциальных парламентов, руководители этих парламентов, бывшие министры, мэры и председатели муниципальных советов — в тюрьме.
А тем временем продолжается война за демократию, за Атлантическую хартию и за «Четыре свободы».
ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ТЮРЬМЕ.
ПОТРЕБНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ
В тюрьме время как будто изменяет свою природу. Настоящее едва ли даже существует, ибо отсутствуют впечатления и ощущения, которые могли бы отделить его от мертвого прошлого. Даже вести об активном внешнем мире, живущем и умирающем, отличаются какой-то призрачной нереальностью, неподвижностью и неизменностью, присущими прошлому. Внешнее, объективное время перестает существовать; внутреннее и субъективное ощущение остается, но оно несколько притуплено, если не считать тех моментов, когда мысль извлекает ого из настоящего, испытывая своего рода реальность в прошлом или в будущем. Мы живем, как сказал Огюст Конт, жизнью мертвых людей, замкнутые в своем прошлом; и это особенно ощущается в тюрьме, где мы пытаемся найти в воспоминаниях о прошлом пли в мечтах о будущем какую-нибудь пищу для наших изголодавшихся, не находящих себе выхода эмоций.
Прошлому свойственны неподвижность, постоянство. Оно не меняется и несет на себе печать вечности, подобно написанной маслом картине или статуе из бронзы или мрамора. Не затрагиваемое бурями и волнениями настоящего, оно сохраняет свое достоинство и спокойствие, заставляя смятенный дух и измученный разум искать убежище в его сводчатых катакомбах. Там мир и покой и чувствуется даже некая одухотворенность.
Однако это не жизнь, если мы не сумеем найти живой связи между прошлым и настоящим со всеми его конфликтами и проблемами. Это — своего рода искусство для искусства, лишенное страсти и стремления к действию, которые составляют самую суть жизни. Без этой страсти и стремления постепенно уходят надежда и жизненная энергия, совершается переход на низшие ступени существования, постепенно сливающегося с небытием. Мы становимся пленниками прошлого, и какая-то часть его неподвижности переходит и на нас. Подобные явления в сознании особенно легко возникают в тюрьме, где активная деятельность невозможна и где мы становимся рабами повседневной рутины тюремной жизни.
И все же прошлое всегда с нами, и все, что мы собой представляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. Мы его творение, и мы живем, погруженные в него. Не понимать этого и не ощущать прошлое как нечто живущее внутри нас — значит не понимать настоящее. Сочетать его с настоящим и распространять его на будущее, порывать с ним, когда оно не поддается такому соединению, превращать все это в пульсирующий и вибрирующий материал для размышлений и действий — вот что такое жизнь.
Всякое жизненное действие исходит из глубин бытия. Условия для этого психологического момента действия подготовляются всем долгим прошлым индивидуума и даже всего народа. Прошлое народа, влияние наследственности, среды и воспитания, подсознательные стремления, мысли, мечты и поступки со времен младенчества и детства в своем причудливом и невероятном переплетении неумолимо толкают к тому новому действию, которое, в свою очередь, становится лишь новым фактором, оказывающим влияние на будущее. Оно влияет на будущее, оно отчасти, а может быть даже в значительной мере, определяет его, и, тем не менее, конечно, нельзя все отнести только к детерминизму.
Ауробиндо Гхош где-то писал о настоящем как о «чистом п девственном моменте», той резкой грани времени и бытия, которая отделяет прошлое от будущего и, существуя, в то же мгновение перестает существовать. Это звучит красиво, но что оно в сущности значит? Девственный момент, появляющийся из-за завесы будущего во всей своей обнаженной чистоте, приходящий в соприкосновение с нами и тотчас же превращающийся в загрязненное и истасканное прошлое. Мы ли его грязним и оскверняем? Или в действительности сам этот момент не является столь уж девственным, поскольку он неразрывно связан со всей грязью прошлого?
Я не знаю, есть ли на свете такая вещь, .как человеческая свобода в философском смысле, или же существует лишь автоматический детерминизм. Очень многое, повидимому, определяется комплексом прошлых событий, оказывающих влияние на индивидуум и часто его подавляющих. Быть может, даже внутренние стремления, которые он испытывает, эти кажущиеся проявления свободной воли, также обусловлены. Как говорит Шопенгауэр, «человек может делать что он хочет, но не может хотеть так, как хочет». Вера в абсолютный детерминизм, как мне кажется, неизбежно ведет к полной пассивности, к прижизненной смерти. Все мое ощущение жизни восстает против нее, хотя сам этот бунт также, быть может, обусловлен событиями прошлого.
Обычно я не обременяю свой ум подобными не поддающимися разрешению философскими или метафизическими проблемами. Иногда они приходят ко мне почти неожиданно среди долгого безмолвия тюрьмы или даже в разгар напряженной деятельности, принося с собой чувство отрешенности или утешение после какого-нибудь мучительного переживания. Но обычно я полон деятельности и мыслей о деятельности, а когда я лишен возможности действовать, я представляю себе, что готовлюсь к действию.
Влечение к действию было присуще мне издавна, но к действию, не оторванному от мысли, а вытекающему из нее и следующему за нею в непрерывной последовательности. И когда между ними устанавливалась полная гармония, что случалось редко, когда мысль вела к действию и находила в нем свое воплощение, а действие вновь рождало мысль и более полное понимание, в этих случаях я чувствовал полноту жизни и интенсивно ощущал всю яркость данной минуты существования. Но такие моменты редки, очень редки. Обычно мысль и действие обгоняют друг друга, между ними нет гармонии, и все попытки привести их в согласие остаются тщетными.
Было время, много лет тому назад, когда я подолгу жил в состоянии эмоциональной экзальтации, занятый деятельностью, которая совершенно поглощала меня. Теперь эти дни моей юности кажутся мне очень далекими, и не только потому, что с тех пор прошло много лет. В гораздо большей степени это объясняется тем, что их отделяет от сегодняшнего дня целый океан опыта и мучительных размышлений. Прежний избыток энергии ныне значительно поубавился, почти неудержимые порывы стали гораздо умереннее, страсти и чувства легче поддаются обузданию. Бремя мысли часто оказывается помехой, и в рассудок, где когда-то царила полная уверенность, закрадывается сомнение. Быть может, все это лишь следствие возраста или . общих умонастроений, свойственных нашему времени.
Но все-таки даже теперь призыв к действию затрагивает какие-то неизвестные струны в моем сердце и часто вступает в короткие схватки с мыслью. Мне хочется вновь испытать «этот восхитительный порыв восторга», который толкает навстречу риску и опасности и позволяет глядеть в лицо смерти и смеяться над ней. Я не питаю любви к смерти, хотя и не думаю, чтобы она меня пугала. Я не верю в отрицание жизни или в отречение от нее. Я всегда любил жизнь, и она все еще влечет меня к себе. Я стараюсь по-своему пользоваться ею, хотя вокруг меня выросло множество незримых барьеров. Но это же самое стремление побуждает меня играть с жизнью, пытаться заглянуть за край ее, не быть ее рабом, чтобы мы могли еще больше ценить друг друга. Быть может, мне следовало быть летчиком, чтобы я мог, когда жизнь станет одолевать меня своей медлительностью и скукой, метнуться в хаос облаков и сказать самому себе: