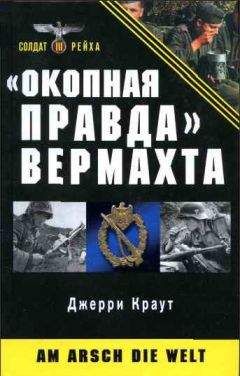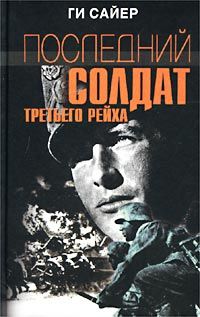Василий Немирович-Данченко - Соловки
Как там покойно, тихо и прохладно. Тут ловят монахи рыбу, здесь ими выстроен домик для рыболовов и поставлены вороты для вытаскивания неводов. Скоро мы подъехали к берегу, где кончался остров Соловецкий.
Версты за четыре синели Анзерские горы. На самой окраине берега изба, или, по-здешнему, келья перевозчиков. Мы все сели в два больших карбаса. Весла блеснули, и лодки прорезали покойную влагу. На этот раз пролив был спокоен, но здесь нередко случаются бури, опасные для маленьких судов, потому что у Анзерского берега находится большой сувой (толчея, водоворот). Даже и теперь, когда море было тихо, — пределы сувоя очерчивались заметно, составляя совершенно правильный круг, в котором течение воды напоминало собою громадную спираль. Несмотря на самую безмятежную погоду, как только наш карбас вступил в пределы толчеи, его стало весьма заметно покачивать, и гребцы измучились, прежде чем достигли берега. Рядом со мною сидели две сестры-странницы. Одной из них было двадцать, другой — девятнадцать лет. Я разговорился с ними — и оказалось, что они бродяжничают уже десять лет обе. Их мать зажиточная перемышльская мещанка — в первый раз потащила их на богомолье в Киев.
— С тыя поры мы и одного лета не можем выжить дома, так и тянет, так и тянет. Особенно, как лески зазеленеют, да на полях цветики почнут алеть. Уж как нас тятенька бил, матушка тоже учила, не жалеючи — нет наших сил. Урвемся и уйдем. Так и бродим до зимы!
Тут же с ними оказалась и молоденькая хохлушка из Пирятинского уезда. По расспросам обнаружилось, что она пошла странствовать во избежание замужества.
— Отчего ты замуж не хочешь?
— Не хай Бог боронит!
Главное в семейной жизни пугала ее необходимость ежедневно варить «чоловику» галушки.
— Давно ты странствуешь?
— Та вже годив с три буде!
— Что же ты потом будешь делать?
— Що Господь даст!
— Ну, а отец у тебя есть? — Девушке не было и 19 лет.
— Ни… На базар поихав, та и по сий час не вертался…
Тут же присутствовала и странница из Москвы, ухитрившаяся дойти до Архангельска, питаясь подаянием и не истратив ни гроша из собственных денег.
— Ну, а в Москве, чай, много помогли на дорогу? — спросил я.
— Ка-ак не помочь, — запела та: — В Москве завсегда можно благодетеля найти. Купцы. На то им и капиталы Творец Небесный дает. А капиталы у них немалые. Ну и они тоже силу свою чувствуют. К нему, поди, тоже знать надо, как подойти: безо всякого резону — хвосты оборвут. А знаешь, так и не оставят. Что-что — а на кофий завсегда достанешь. Да… Подитко у него — другой заслужи. Ты думаешь легко?.. А все смирение мое, покорство. Обидит ли кто, собак ли напустит — травят нашу сестру тоже, — камнем ли мальчонко швырнет, я, старушка, и слова не скажу…
— Примерно годов пять тому купцы в сундушном ряду меня кирасином облили, да и подожгли, — что ж ты думала, облаяла я их? — Залилась я — старушка — слезами горькими и, как потушили меня, пошла себе. Потому всевидящее око… Зрит оно простоту мою и взыскует за самые эти муки. Вот, примерно, к купцу одному я пришла. Мужчина из себя красивый, — десять пуд одной ручкой подымают. Страшенный такой, вид значительный. А жрет поскольку — Господи, спаси его душу. Как это допустили меня в палаты к нему, и обмерла я, мать моя. Пер он, пер этого гуся, а опосля за поросенка принялся. И меня, постницу старушку, соблазнил. У меня, говорит, апекит такой. Одначе, десять рублев на дорожку изволили пожертвовать…
— А кофь пить грех! — вставила пожелтевшая и высохшая странница.
— Врешь, кто много этого кофия пьет, тот и в могиле не тлеет. Кофь из ерусалимской земли идет, на верблюде — медведь такой большенный есть. Из благословенной земли!
— А ты сама видела?
— Сама, своими глазами! — не смигнув, подтвердила московская салопница.
— Ну, если сама…
— Медведь этот большущий и на тридцать семь верстов от Сион горы живет. Одначе, человека он не трогает, потому ему по положению большой припас от турецкого салтана идет. За это он кофь и возит. А кофь, мать моя, с неба как манна падает, и девицы невинные собирают его, и младенцы… И поэтому прозывается оно мокка… А это премудрость, и понять ее простым разумом невозможно. Главное, не измышляй и сократи себя!
Таким образом пролетело время до того момента, когда на ясном небе, над большою лесистою горою обрисовался полувоздушный Голгофский скит. Трудно определить, что изящнее — этот ли уголок, или Секирная гора. Сравнения в области красоты, будь это красота женщины или природы, все равно, — невозможны. Все зависит от того, как в данный момент падают лучи, как легла тень; важно и предварительное настроение зрителя. Сказать откровенно, встречая постоянно прелестные пейзажи на этом, сравнительно небольшом, клочке земли, я до того пригляделся к ним, что они далеко уже не производили прежнего впечатления…
Тем не менее, первое впечатление Голгофы прекрасно. Это мираж, мягко рисующийся в синеве неба… Когда смотришь в эту высь, так и кажется, что там человек должен оставить все земные помыслы и отдаться или мистическому созерцанию Божества, или изучению сокровеннейших тайн природы. Как жалко, мелко и ничтожно должно все казаться оттуда: и люди — такими маленькими, и сооружения их — такими незначительными. А этот упоительный горный воздух! Я сам испытал здесь его влияние. Он опьяняет человека. Грудь расширяется от восторга, кровь движется быстрее, усталости нет и в помине. Все выше и выше.
Когда мы ступили на Анзерский берег — общий силуэт Голгофы заслонился другими, менее высокими горами. Тут уже озер меньше, но зато как прелестны здесь лесные дороги! Кажется, шел бы по ним без конца. А между тем — ни ярких цветов, ни певчих птиц. До чего должен быть очарователен пейзаж, если он заставляет забывать о скудости красок и звуков.
Тут многие купались в море. Вода до того пропитана солью, что последняя осаждается на бороде и на волосах. Она холодна, как лед, но когда выйдешь на берег, тело горит, и сам чувствуешь себя как будто возродившимся. А сцены при купанье!..
— Мотри, Петра, колько тут угодников, может, купалось, а ты, животная твоя душа, без молитвы в воду лезешь. Нешто это в правиле — песья твоя голова?
Петра начинает молиться.
— А ты, идол, не лайся, — серьезно заканчивает он молитву, — не знаешь, кое здесь место?
— Наш председатель ныне Анну получил! — рассуждает чиновник, приседая в воде.
— Что говорить: человек просвещенного ума!
— Во все планеты посвящен!
— Химик настоящий!
Наконец, вся орава двинулась вперед. Скоро мы нагнали баб, тараторивших впереди, как сороки. Рядом с нами, у самых ног, бежала куропатка.
— Господи! — восхищался крестьянин. — Это ли еще не чудеса? Дикая птица, а к человеку как собака льнет. Ну и монашики. Возвеличил их Бог, видимо. Это верно… — Нет, а вот у нас лесничий был, так тот голубей жрал. — «Немцы одобряют». — Народ подлый! — «Точно, что подлый». — Они от Каина пошли…
Дорога, наконец, пошла в гору. Она поднимается вокруг нее спиралью. Мы бодро подвигались вперед, и порою, как выходили на открытое место, словно заоблачный храм, светился над нами скит Голгофы. Несколько раз принимались отдыхать. Один юродивый странник полз вверх на коленях. Крестьяне чуть не крестились на него. Странница, та не отступала от него ни на шаг. Остановится он — и та станет. Начнет он класть земные поклоны, и та сейчас же. Так до вершины горы.
Вид с колокольни Голгофского скита еще шире, величественнее и разнообразнее, чем с Секирной горы. Перед вами бесконечный простор синего моря, в которое врезались бесчисленные мысы соловецких берегов. Острова Анзеры, Соловки и Муксальма лежат далеко внизу под вами. Вы охватываете каждую подробность этой картины, ни на минуту не теряя общего ее впечатления. Это — замечательно целый в художественном отношении пейзаж. Горы, леса и озера — каждое имеет свой собственный оттенок. Бесконечное разнообразие этих оттенков привело бы в отчаяние живописца. А их переливы, их переходы одних в другие! Это целая поэма природы, и, глядя на нее, вы точно внимаете беспредельному миру чудных гармонических звуков. Под вами, внизу, словно частые стрелки поднимаются верхушки темных, бархатистых елей; рядом с ними березовые рощи под горячими лучами солнца кажутся пятнами расплавленного золота. Но что сравнится со смешанным лесом сосен, елей и берез! Это — невыразимая красота при таком освещении. А вдали Соловецкая обитель с ее часовнями, точно легкий призрак. Весь розовый, с искрами своих крестов — он ласкает взгляд туриста. Отдаление ослабляет все резкие контуры, остаются только нежные, мягко рисующиеся линии. Взгляните прямо под колокольню. У подножия горы Голгофы — озеро, это клочок голубого неба. На нем — точно щепка, всмотритесь — словно какая-то муха копошится на этой щепке. Это — плот, а на плоту монах, удящий рыбу. Каждая мелочь отсюда является совершенством, каждый штрих полон изящества и прелести. На самом краю горизонта лежит противоположная оконечность пейзажа — Секирная гора. Скит на ее вершине кажется белою искрой. Между нею и последнею чертою горы — полоса голубого неба, как будто этот монастырь, опускаясь с высоты, повис далеко над вершиною…