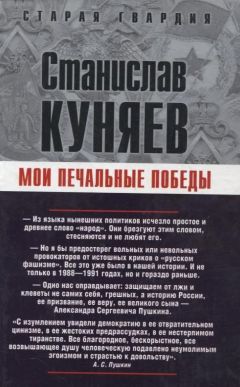Станислав Куняев - Поэзия. Судьба. Россия: Кн. 2. …Есть еще океан
Письмо было от известной поэтессы Фазу Алиевой.
В культурно-издательской политике советского государства было два как бы взаимно исключающих перегиба.
С одной стороны, ветер бюрократического казенного интернационализма естественным образом выветривал и разрушал жизнь языка и систему национальных школ, ассимиляционные процессы заходили столь далеко, что порождали глухой отпор и сопротивление национальных сил так называемой русификации. С другой — центральная власть, чувствуя этот свой интернационалистический первородный грех, бросала громадные средства и силы на всяческого рода декады, юбилеи, а также на демонстративно чрезмерное количество изданий (особенно на русском языке) известных и малоизвестных, а подчас и вообще никому не нужных писателей и поэтов, как бы демонстрируя на искусственной почве другого языка расцвет национальных литератур…
О том, как все это происходило, свидетельствует моя запись из дневника от 20 мая 1974 года:
"В конце апреля был в Таджикистане. Участвовал в нашем всеобщем советско-литературном разврате. Банкеты. Сидение за столами президиума, черные "Волги", дети с тюльпанами вдоль дорог, вой карнаев (медных гигантских труб), хлеб-соль, орехи, колхозники, снятые с полевых работ… Два шута — Кулиев и Кугулътдинов плясали, пели, паясничали, целовали ручки партийным дамам". Несколькими годами раньше во время одного из таких шумных и крайне расточительных торжеств я написал желчное стихотворение:
За банкетом банкет. Три часа
коллектив набивает желудки.
Речи. Тосты. Тяжелые шутки.
Опостылевшие голоса.
В результате казенных щедрот
багровеют тяжелые лица,
раздвигается вширь поясница,
глохнет совесть, жиреет живот.
Даровая еда, как всегда,
вызывает желанье отдачи —
появляется что-то собачье
в благодарных движениях рта,
оседают ферменты в крови…
Лишь один, чем-то родственный волку,
ест с ухмылкой, твердит поговорку,
смотрит в лес, как его ни корми.
Впрочем каждая эпоха расточительна по-своему. Те банкеты хотя бы проходили на фоне мирной и стабильной жизни, а нынешние — куда более богатые! — это же пиры "во время чумы".
Беда была еще и в том, что эта неестественная стабильность достигалась часто за счет всяческого ущемления русских писателей. Сейчас я склоняюсь к мысли о том, что это была хотя и уродливая, но неизбежная плата за существующее положение вещей, но в 1973 году я, желая сдвинуть политику наших издательств "в русскую сторону", проделал колоссальную работу — изучил соотношение поэтических книг, изданных виднейшими поэтами — русскими и национальными — за послевоенные четверть века. Картина выяснилась поучительная. У Расула Гамзатова за эти 25 лет (с 1958-го по 1973 год) вышло в свет 76 книг, из них на русском — 52. У Эдуардаса Межелайтиса — 65, на русском — 25. У белоруса Максима Танка — 53 книги, на русском — 24, у молдаванина Емилиана Букова — 56 книг, на русском — 29 и т. д.
У каждого из этих так называемых классиков на русском языке к 1973 году вышло изданий в 2–3 раза больше, нежели у Ярослава Смелякова, Леонида Мартынова, Сергея Маркова, которые были значительно старше своих поэтических собратьев из республик. Что уж было говорить о ровесниках!
Сообразив, что здесь позиции "национальных классиков" и стоявшего за ними мощного еврейского переводческого клана весьма уязвимы, я сочинил письмо в отдел культуры ЦК КПСС, где привел почти анекдотические примеры вопиющей диспропорции.
"Подумать только, — писал я в этом письме. — У Сильвы Капутикян вышло 57 книг. Ее переводили такие известные русские поэты, как Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Владимир Соколов, Владимир Корнилов — в общей сложности издавшие все четверо 25 стихотворных сборников. А у Сильвы на русском вышло целых 30! Разве это нормально?"
"У чеченской поэтессы Раисы Ахматовой на русском языке вышло куда больше изданий, нежели у ее всемирно известной однофамилицы".
"У талантливых русских поэтов, которым сегодня от 30 до 40 лет — у Николая Рубцова—5 книг, у Анатолия Передреева— 3 книги, у Олега Чухонцева — ни одной, у Глеба Горбовского — 5 книг, а в то же время (беру поэтов того же поколения) у украинца М. Сынгаевского —13 книг, у белоруса Г. Бородулина— 13 книг, у абхаза К. Ломиа— 13 книг. Разве это справедливо?"
"А какой вздор пишет наша "Литературная газета", когда пытается уверить читателя, что "сегодня С. Вургун и М. Турсун-заде, Р. Гамзатов и Э. Межелайтис оказывают на стихию русского стиха не меньшее влияние, чем Е. Боратынский и А. Фет".
Из литературного дневника. Запись от 15.01.1971.
"Сегодня Семен Липкин в ответ на мои слова о том, что я не хочу заниматься переводами таджикской поэзии, потому что мне это неинтересно, заявил: "А где что интересно? Нигде ничего, в том числе и в первой среди равных. Конечно, какое ему дело до Рубцова, Соколова, Шкляревского, до меня в конце концов. Все, что они ценят во мне — так это интеллигентность и терпимость. А стоило мне в нескольких стихотворениях повторить слово "Родина", как лицо у того же Кронгауза вытянулось. Я же это все помню".
Несколько страниц моего письма были посвящены издательскому беспределу, который насаждался строчкогонами-переводчиками типа Я. Хелемского, А. Кронгауза, А. Глезера, А. Наумова, Е. Николаевской, Н. Гребнева, А. Шацкова, Ю. Нейман и прочими русскоязычными ремесленниками, чьими муравьиными усилиями народные и государственные средства перекачивались в баснословные гонорары, становились сотнями тонн бумаги, превращенной в рифмованную макулатуру.
В сущности, это письмо 1973 года было первой моей попыткой вмешаться в большую идеологию. Власти поняли, что я нашел слабое место в нашей национальной политике. В ответ на письмо последовал звонок из отдела культуры ЦК КПСС. Я был приглашен на беседу к Альберту Беляеву (именно тогда я впервые переступил порог этого заведения). Беляев разговаривал со мной уважительно, осторожно, внимательно. Приглядывался. Изучал. Намекал на то, что по существу я прав, но никаких резких изменений в этой практике быть не должно.
Расстались мы вежливо и даже почти радушно. Беляев, видимо, оценил мой государственный подход к делу, но он, наверное, и не подозревал, что в отстаивании русских позиций я на этом не остановлюсь. До дискуссии "Классика и мы", до моего письма по поводу "Метрополя" оставалось всего-то 4–5 лет…
* * *Кроме православных народов Грузии, Армении, Украины, Молдавии были и другие, вошедшие в Россию в XIX веке при разных исторических обстоятельствах. Иные из них страдали от внешних опасностей, другие — от собственных междоусобиц, и наиболее проницательные из правителей не без основания надеялись, что эти междоусобицы будут подавлены волей русской власти.
"Мятежи, происходящие в западной части Китая, кои покорены за 75 лет китайцами и населены магометанами, киргизами и частью Большой орды, доходят до ожесточения. Ополчение магометан, ревнующих свергнуть с себя иго Китая, простирается до ста тысяч человек".
Ив. Вельяминов, губернатор Западной Сибири, вице-канцлеру К. Нессельроде
"Приимете меня под императорский покров свой и будете защищать от соседних врагов моих — киргизцев. Истребите оружием вашим все делаемые киргизцами баранты (угоны скота. — Ст. К.), чтоб в моей власти у находящихся теперь народов господствовало бы спокойство, тишина, законные права и порядки".
Из прошения Казахского султана
старшего жуза Суюка Аблейханова
императору АлександруI
о принятии его в подданство России
Вот и до киргизов постепенно дошло мое повествование. И в их землях много раз мне пришлось побывать. Где-то сейчас, может быть в столице, а может быть в своем аиле на просторах Таласа, доживает век мой друг фронтовик Суюнбай Эралиев. Ему уже под восемьдесят. Вместе с ним мы путешествовали по берегам Иссык-Куля, по горным дорогам Таласа. Я жадно вглядывался в незнакомую мне жизнь ослепительного киргизского Тянь-Шаня, стихи в те годы сочинялись легко и вдохновенно, но одновременно в них, независимо от моей воли, каким-то образом появлялись мрачные предчувствия…
Я увидел их с краю базара
в азиатском горячем краю.
Два слепца — неразлучная пара —
начинали программу свою.
Представители странного люда, —
он с гармошкой, кричащей навзрыд,
два слепца… Занесло их откуда?
И она под гармошку хрипит.
Ржали лошади. Солнце палило.
Полукругом толпился народ:
"Муж оставил…", "Жена изменила…
" "Злая мачеха жить не дает…"
Не спеша кое-как подавали,
потому что киргизы вокруг
то ли плохо слова понимали,
то ли слушать стоять недосуг.
Видно, людям хотелось покоя,
видно, им надоела беда…
Словом, слышалось в этом такое
вымирающее навсегда.
И слезились глаза от сиянья
голубой иссык-кульской воды,
от сверкающих гребней Тянь-Шаня,
от отчаянья и красоты.
Таким я увидел русское горе еще в 1964 году на берегу Иссык-Куля, в центре Азии.