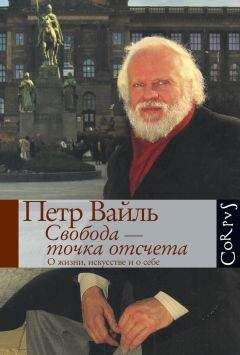Петр Вайль - 60-е. Мир советского человека
Новомировская эстетика, созданная тем же В. Лакшиным, принципиально не отличала литературу от действительности. Литературный критик становился критиком вообще.
Лакшин видел в литературных героях типы, взятые из реальности, а своей задачей считал возвращение их из литературы в жизнь. Его анализ начинается с фразы «обычная черта такого сорта людей…».
Людьми он называет вымышленные существа, рожденные фантазией писателя. Лакшин это противоречие снимал при помощи ключевого понятия своей эстетики, кратко выраженной в названии знаменитого рассказа А. Яшина – «Рычаги».
В строительстве идеала все должно участвовать в общем труде. Рычаги коммунизма – это и космонавт, и балерина, и сам критик, и персонажи, с которыми он имеет дело. Стратегия определяет тактику, цель – средства.
Поэтому, скажем, А. Синявский в статье о романе И. Шевцова «Тля» обвиняет автора в том, что он «выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры»7. Тактические соображения тут превалируют над другими, уже высказанными к тому времени Абрамом Терцем.
Атмосфера беспощадной борьбы правых и левых, правды и кривды придавала полемике действенный характер. По идее, споры должны были кончаться выводами, лучше – оргвыводами.
Но эта же атмосфера открывала для идеологической жизни страны изощренное полемическое искусство.
Вообще-то, ни в идеалах 60-х, ни в правде, которой они поклонялись, не было ничего нового. Все это, включая новомировскую эстетику, всего лишь повторение прошлых веков – просветительского восемнадцатого, революционно-демократического девятнадцатого.
Когда утихли полемические баталии, стало заметно, что самым интересным было – не что хотели сказать 60-е, а как. Не какую правду они открыли народу, а каким образом они это делали.
60-е создали разветвленную полемическую систему, пережившую свою эпоху и оказавшую влияние на все советское общество.
Суть этой системы в том, что правду, великую и главную, нельзя было высказать прямо.
Вернее, это уже сделали, и правду можно было прочесть на любом заборе. Однако трактовка висящих на заборе лозунгов оставалась туманной. Коммунизм был несомненен, но тем сложней, да и рискованней был вопрос: как его понимать?
Элементарный ответ – партийные документы – на самом деле являлся фикцией. Из всех речей, брошюр, постановлений и решений нельзя было однозначно выяснить партийную позицию. Как любой сакральный текст, партийные документы подлежали бесконечным трактовкам. (Такую возможность продемонстрировала, кстати, редакция Третьей программы КПСС 1969 года, полностью извратившая хрущевские доктрины, не отменив ни одной из них.)
Принципиальная невнятность партийной идеологии происходила оттого, что формы и методы реализации абстрактного идеала должны были обнаружиться как раз в той самой полемике, которая заполнила 60-е. Партийная истина должна была родиться в споре. Ее и составляли враж дующие стороны – Шолохов и Солженицын, Кочетов и Твардовский, «Молодая гвардия» и «Юность». Все вместе они образовали идеологическое течение эпохи, внутри которого весьма хаотически перемещалась КПСС, оснащенная не «единственно верным учением», а реальной карательно-поощрительной силой.
Самым простым, но и самым ограниченным способом воздействия на партию было – сказать ей правду в глаза. Например, о «тяжелых временах, когда никто не был застрахован от произвола и репрессий»8. После Хрущева это делали многие – от бунтаря Евтушенко до стукача Ермилова.
Собственно, к этому и призывал Твардовский на съезде, предлагая писателям не повторять «Правду», а говорить ее – «о хозяйственной, о производственной жизни страны… о духовной жизни нашего человека»9.
Обо всем этом действительно немало сказал «Новый мир». И сделал это, как, например, Ф. Абрамов или Б. Можаев, не кривя душой.
Однако разоблачительная деятельность не привела к желаемым результатам. Критики справа видели в ней очернительство, критики слева – не понимали, как разоблачение одних пороков предотвратит появление других, считая, что осуществление идеала зависит не от обличения, допустим, сталинских преступлений, а от того, смогут ли массы воспитаться и просветиться.
Массы стали воспитывать на примере. В ход пошла классика. 60-е – эпоха расцвета литературно-исторической аналогии. Острые вопросы современности решались и в открытом диспуте, и в исторических декорациях. На Таганке тогда шла «Жизнь Галилея», в «Современнике» – «Декабристы» и «Народовольцы», МХАТ ставил «Ревизора», Козинцев снимал «Гамлета».
Исторические параллели давали 60-м культурную перспективу, вставляли эту локальную эпоху в мировой исторический процесс. Александр Островский, например, в трактовке Лакшина, поучал современников: «Без нравственной опоры, морального стержня ни таланту, ни уму нет дороги: он обречен падать и вырождаться»10.
Эта сентенция близка к той, что приводится в «Моральном кодексе строителя коммунизма» – «высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов»11. Но у Лакшина общий принцип конкретизируется в авторитетном и подробно разобранном примере из классики12.
Даже тогда, когда литературе поручали «в нужную минуту предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях»13, она не становилась рычагом. В конце концов, о чем еще, если не о социальных и нравственных опасностях, писали в «Новом мире»!
В 60-е годы общество, с одной стороны, сопротивлялось проповеди, с другой – подчинялось ей. Дидактические намерения убивали идею, оживлял ее – риск. Мораль могла быть услышана, только если ее провозглашали с тайного амвона.
Феномен этот называется – эзопов язык.
Теоретик эзопова языка Л. Лосев определяет это явление как особую литературную систему, «структура которой делает возможной взаимосвязь автора и читателя, скрывая одновременно от цензора непозволительное содержание»14.
Из трех участников этого увлекательного действа главным кажется цензор. По сути, он и является автором эзопова текста.
Писатель творит по его указке или, точнее, по антиуказке. Но при этом фигура цензора абсолютно аморфна. Условия игры не позволяют ему назвать – что является «непозволительным содержанием». Его должен эмпирическим путем нащупать сам автор.
К тому же перечень запретных тем все время меняется. Если в начале 60-х сталинские репрессии назывались сталинскими репрессиями, то в конце 60-х они получили сложное наименование «нарушения законности, отмеченные нашей памятью о 1937 годе»15.
Можно ли сказать, что в последнем примере автор скрыл от цензора свои мысли? Вряд ли. Истинную цензуру представляет не конкретное ведомство, а критерий общественных приличий. Текст зашифровывается не только для того, чтобы обмануть цензуру, но и для того, чтобы не оскорбить читателя чересчур откровенным высказыванием. Рискованный намек (политического, национального, эротического характера) втягивает читателя и автора в художественное поле иносказания.
Чтобы реальный объект стал предметом искусства, он должен хоть немного обобщиться, потерять грубую однозначность, завуалироваться. То есть должна выстроиться дистанция между жизнью и вымыслом. Это обогащает текст дополнительными значениями, позволяет некоторое разнообразие трактовок, превращает человека в персонаж.
Специфика советской жизни способствовала появлению грандиозной эзоповой системы. Почти любое понятие, имя, явление могло получить эзопов псевдоним. Сталин трансформировался в усатого батьку, Хрущев – в проявления волюнтаризма, еврей – в инвалида пятой группы, женщина – в товарища, 37-й год – в опричнину. Система эта настолько тотальна, что мысль, выраженная внеэзоповыми средствами, представлялась либо плоской, либо – даже – невозможной.
В 60-е поэтика эзопова языка создала свой метамир. Намеки теряют связь с тем, на что намекают. Эзопов язык постепенно отчуждается от породившей его эмпирической реальности.
Если заменить эзоповы термины теми понятиями, которые они подразумевают, то обнаружится, что 60-е остались без литературы и искусства. Даже дружеская беседа превратится в обмен декларациями.
Конечно, эзопов язык всегда подлежал внутренней декодировке. Но одновременно он существовал и в нерасшифрованном виде. Так, наряду с прозаическими евреями в обществе присутствовали и более таинственные «маланцы» из повести Войновича16.
Усложнение эзоповой системы в 60-е годы не увеличивало количество правды, контрабандой пронесенной мимо цензора, а обогатило эту правду, превращая ее в искусство.
Мир, в котором эзопова словесность замещает обыкновенную, требует особого способа восприятия. Читатель становится не пассивным субъектом, а активным соавтором. Более того, читатель превращается в члена особой партии, вступает в общество понимающих, в заговор людей, овладевших тайным – эзоповым – языком.