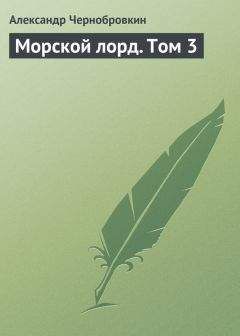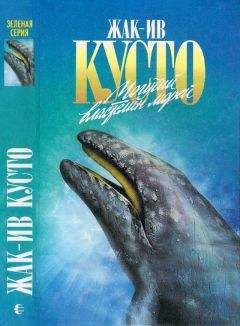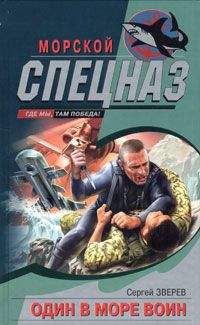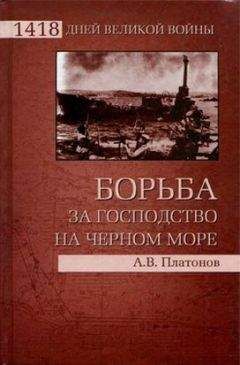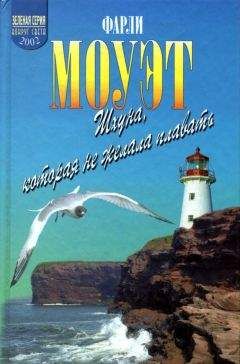Сергей Крившенко - Плавать по морю необходимо
„Животная, хотя и своеобразная жизнь“, „развитая жизнь“. На их сопоставлении и противопоставлении вырастают размышления Гончарова о человеческой цивилизации, о судьбах России. Гончаров видит не только крайности, жизнь „грубую, ленивую и буйную“, жизнь бездуховную, но и жизнь развитую, „царство жизни духовной“. Он видит и то переходное состояние, когда жизнь дошла „до того рубежа, где начинается царство духа, и не пошла дальше“.
Об этом глава „Ликейские острова“. Гончаров как бы попадает в детство человечества, в его „золотой век“. „Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер“. Куда пойдет эта жизнь? Гончаров трезво видит, что идиллия не беспредельна. Да, это не жизнь дикарей, грубая, ленивая и буйная, „но и не царство жизни духовной: нет следов просветленного бытия“. Природа сама по себе не наполняет целиком жизнь человека. Просветленное бытие? Осуществимо ли оно здесь, на благословенных островах? Прогресс, цивилизация лишены идиллии. Вот и здесь: „У одних дверей стоит с крестом и лучами света и кротко ждет пробуждения младенцев; у других — люди Соединенных Штатов, с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации…“ И уже более иронично: „Благословенные острова. Как не взять их под покровительство? Люди Соединенных Штатов совершенно правы, с своей стороны“. Словом, „вот тебе и идиллия, и золотой век, и Одиссея“. Дух практицизма, коммерции, приобретательства, властвования одних над другими… Но все это реальность, от нее не уйти. Гончаров довольно резко критикует английского колонизатора. „Человек-машина“, чья добродетель лишена своих лучей». Да, он цивилизует мир, но одновременно и разрушает, делает его неуютным. Раньше, в советский период было принято подчеркивать обличительный характер изображения колонизаторов у Гончарова. Сейчас в некоторых статьях такая критика стыдливо обходится, ретушируется. Или даже отвергается. Но крайности здесь не нужны. Гончаров не обольщается, рисуя фигуру колонизатора, пожирателя пространств, торговца наркотиками, не останавливающегося ни перед какими нравственными понятиями ради выгоды. Вот один такой момент прямой характеристики: «Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то, чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот…» («Шанхай»). Нет, сатирический портрет англичанина не задан искусственно, на шаржирован, как то показалось иным исследователям, он дан контрастно, ярко, художественно.
Гончаров увидел мир на разных этапах его развития, и цивилизованные страны, и патриархальные, почти доисторические уголки земли, где сама природа благодетельна для человека. Покой и движение, деятельность и недеятельность. Что вносит человек?
И последние главы «Фрегата…» — это дальневосточные берега. Сибирская Русь… Сибирь видится Гончарову в особом переходном состоянии. Тут возникает образ Сибири исторической, с ее прошлым и будущим. И, разумеется, настоящим. Движение жизни не остановилось, прогресс хоть и медленно, но продолжается. «Развитая жизнь», «царство жизни духовной» где-то впереди. «Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места…» И здесь параллель между чужим и своим обостряется: Гончаров приходит к мысли о «русском самобытном примере цивилизации…»
* * *Рассмотрим дальневосточные и сибирские страницы путешествия несколько обстоятельнее. Подвижническое начало проявилось уже в самом факте путешествия Гончарова. Артистическая, созерцательная натура художника, по словам Гончарова, требовала покоя, уединения, независимости от сует дня («Это впоследствии называли во мне обломовщиной», — пояснил писатель в мемуарных записках «Необыкновенная история»), но та же натура требовала живых впечатлений, движения, умения преодолевать преграды. Сетуя на то, что у него не было средств, чтобы заниматься только своим делом, что приходилось дробить себя на части, Гончаров писал: «Чего только мне не приходилось делать! Весь век на службе из-за куска хлеба! Даже и путешествовал „по казенной надобности“ вокруг света… И все-таки, несмотря на горы и преграды, я успел написать шесть-семь томов!» («Необыкновенная история»). Путешествие, конечно, много открыло Гончарову.
Он еще с детства мечтал о таком вояже. И вот в возрасте сорока лет, уже известным русским писателем, автором романа «Обыкновенная история» и фрагмента «Сны Обломова», «из своей покойной комнаты он перешел на зыбкое лоно морей», оставил привычную жизнь, которая «грозила пустотой, сумерками, вечными буднями», и ринулся дорогой вокруг света. Уже в начале пути Гончаров задумался, как заменить «жизнь чиновника и апатию русского литератора энергиею морехода». Как вместить в душу «развивающуюся картину мира», где взять силы, чтобы воспринять массу великих впечатлений. И эта «дерзость почти титаническая» оказалась ему по плечу. «На море, кроме обязанностей секретаря при адмирале Путятине, еще учителя словесности и истории четверым гардемаринам, я работал только над путевыми записками, вышедшими потом под названием „Фрегат „Паллада““, — писал Гончаров в своей исповедальной „Необыкновенной истории“». Разработка замысла романа «Обломов», а также «Обрыва» уступила место очеркам путешествия. «Обе программы романов были со мной, — рассказывал там же Гончаров. — И я кое-что вносил в них, но писать было некогда. Я весь был поглощен этим новым миром, новым бытом и сильными впечатлениями».
А впечатлительной душе художника открывалось многое. Он, как мы уже сказали, побывал в Англии, перешел Атлантический океан, посетил остров Мадеру, обошел мыс Доброй Надежды, был в Сингапуре, Гонконге, Шанхае, на Ликейских островах, на Маниле, в Японии, дошел до русских берегов, обратный путь совершил через Сибирь.
Он первый из русских писателей своими глазами взглянул на дальневосточные русские земли и воды и написал о них в очерках (до этого читатели знали лишь записки и путевые очерки самих землепроходцев и мореплавателей).
Своеобразное художественное открытие миров Востока — главы «Русские в Японии», «Шанхай», «Манила». Особенно обстоятельно раскрыт противоречивый мир Японии[132].
В этих главах Гончаров описывает посещение острова Гамильтона, японского порта Нагасаки, плавание мимо корейского берега, а затем мимо Приморья к Императорской (ныне Советской) гавани. Гончаров пишет о ходе переговоров с японскими властями, которые всячески тормозили заключение торгового договора с Россией; интересны многие бытовые и пейзажные зарисовки (например, картина весеннего Нагасаки). Русские моряки по пути ведут большую работу: идет опись берегов, промер глубин, уточняются карты. 18 апреля прошли остров Цусиму. Гончаров углубляется в историю Кореи, размышляет о нравах народа, о развитии торговли. С большой симпатией отзывается о простых корейцах: «рослый, здоровый народ», «атлеты с грубыми смугло-красными лицами и руками», «домовитые люди». И хотя знакомство с жизнью корейцев происходит почти на ходу — состоялось и художественное открытие «мира Кореи». В русской литературе потом этот мир будет дополнен Гариным-Михайловским, Крестовским, но первым из русских писателей здесь был Гончаров.
5 мая фрегат входит в Японское море. А 9 мая за кормой остаются корейские берега. «9 мая. Наконец отыскали и пограничную реку Тай-маньга, мы остановились миль за шесть от нее. Наши вчера целый день ездили промерять и описывать ее… Вы, конечно, с жадностью прочтете со временем подробное и специальное описание всего корейского берега и реки, которое вот в эту минуту, за стеной, делает мой сосед Пещуров, сильно участвующий в описании этих мест» («От Манилы до берегов Сибири»). И уже в наше время ученый географ А.И.Алексеев в своей книге «Так начинался Владивосток» отметит и этот эпизод: залив Посьета и берег до реки Тюмень сняты с описи фрегата «Паллада» 1854 года. Гончаров пристально всматривается в новые земли, земли нынешнего Приморского края, где еще только через шесть лет будет основан порт Владивосток. А далее Татарский пролив. «По временам мы видим берег, вдоль которого идем к северу, потом опять туман скроет его». И далее: «Холодно, скучно, как осенью, когда у нас, на севере, все сжимается, когда человек уходит в себя, надолго отказываясь от восприимчивости внешних впечатлений, и делается грустен поневоле. Но это перед зимой, а тут и весной то же самое. Нет ничего, что бы предвещало в природе возобновление жизни, со всею ее прелестью». Несколько позже, очутившись в северных широтах, Гончаров еще раз посетует: «Что за плавание в этих печальных местах! Что за климат! Лета почти нет… Туман скрывает от глаз чуть не собственный нос». Как видим, преувеличение, но не романтическое. Гончарову явно не по душе затяжная дальневосточная весна, густые постоянные туманы, холод и сырость. И берег достаточно далек, чтобы увидеть, что сотни примет предвещают в природе возобновление жизни.