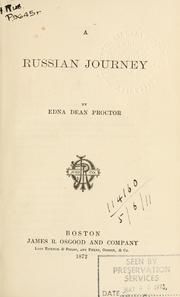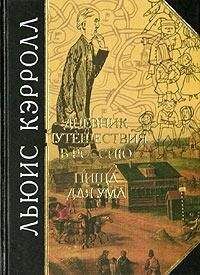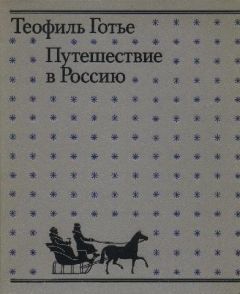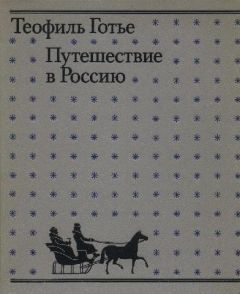Станислав Куняев - Мои печальные победы
* * *
Многие мои идейные противники в споре об ифлийстве пытались обвинить меня в том, что я зачисляю в эту семью литераторов, которые учились до войны в других вузах и не были студентами ИФЛИ. Но я всегда считал ифлийство не принадлежностью к знаменитому институту, а особым мировоззрением молодого поколения второй половины тридцатых и начала сороковых годов.
Александр Межиров (1924 года рождения), конечно, до войны не мог по возрасту учиться в ИФЛИ, но по мировоззрению он типичный ифлиец. Во-первых, он всегда боготворил пламенных рыцарей мировой революции. Даже в начале 80-х годов прошлого века Александр Петрович все еще клялся в преданности представителям этого клана:
Но сегодня Соня Радек,
Таша Смилга снятся мне…
Слава комиссарам красным,
Чей тернистый путь был прям…
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным матерям.
Стихи органически вписывались в кровавое романтическое полотно, на котором красовались окуджавские «комиссары в пыльных шлемах», палач казачества, евтушенковский Якир, протянувший в будущее «гранитную руку» из прошлого[9], где в дымке времени «маячила на пороге» целая когорта комиссаров – Левинсон из «Разгрома», Коган из «Думы про Опанаса», Штокман из «Тихого Дона», Чекистов-Лейбман из «Страны негодяев».
Да и светский быт предвоенной молодежной Москвы был у Межирова такой же, что у Самойлова, у Орловой-Либерзон, у Льва Копелева – кастовый, то есть «ифлийский». Об этом свидетельствует стихотворное воспоминание Межирова «Предвоенная баллада» с эпиграфом из Самойлова: «Сороковые роковые…» Вечеринка московской молодежи, своеобразного истеблишмента («на квартире замнаркома»), «рояль», «полумгла», «шелковые блузки десятиклассниц», «цыганский анапест» Ляли Черной, упоительный вальс Штрауса. И прямо с этого праздника жизни «под вальс веселой Вены» дети Арбата или Дома на Набережной отправляются:
Шаг не замедляя свой,
Парами в передвоенный
Роковой сороковой.
И на войну межировский герой уходит от ипподромных страстей, от ифлийско-эпикурейского образа жизни («меня писать учили Тулуз-Лотрек, Дега», «изучен покер, преферанс и фрапп»), от отца с нэповскими привычками:
Отец ворчал, что отрок не при деле,
Зато колода в лоск навощена.
И папироски в пепельницах тлели
Задумчивым огнем… как вдруг война.
Разве не маркитантство (под стать самойловскому рассказу о «солдатах на постое») живет в так называемых военных стихах Межирова:
Мы на Верхней Охте квартируем,
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем
Памятные сердцу моему.
Очерк сердца зыбок и неловок,
А стрела перната и мила —
Даты первых переформировок,
Первых постояльцев имена.
…………………………….
«Поселились. Пили. Веселились».
Вот и все. И больше ничего.
Картина эта полностью копирует сцену из поэмы Самойлова «Дальние страны», где герой соблазняет молодую немку «водкой», «папиросами», «тушенкой»… Да и подобно ифлийцам у Межирова была няня, и стихи о ней, вырастившей в 20-е годы маленького заику и сына юриста, весьма знаменательны:
Все, что знала и умела
Няня делала бегом
……………………
Родина моя Россия.
Няня. Дуня. Евдокия.
Улавливавший в стихах даже самую малую фальшь, Анатолий Передреев, прочитав это стихотворение, холодно заметил:
– Россия-няня? Ну, слава богу, что еще не домработница.
Фальшивый романтизм, определявший перед войной и в самом ее начале характер нашей военной поэзии, быстро, чуть ли не в первые месяцы войны, потерял свой пафос, иссяк, и лишь отдельные его вкрапления иногда встречаются у поэтов самого последнего военного призыва. Любопытно, что Окуджава, лишь в конце 50-х годов дополнивший «обойму» поэтов фронтового поколения, качнулся в сторону этого романтизма, когда тот уже стал глубокой историей:
Но если вдруг когда-нибудь
Мне уберечься не удастся,
Какое новое сраженье
Ни покачнуло б шар земной,
Я все равно паду на той,
На той далекой на гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.
С течением истории становится все яснее, что гражданская война не менее страшна и губительна для народа, нежели любая другая. Стихи написаны в 1957 году, а кажется – по словам, интонации, настроению – будто они родились в предвоенное время. Поэт явно опоздал примкнуть к ифлийскому братству, но заменил его похожим понятием – «арбатство», посвятив, в сущности, своей малой родине – Арбату – все стихи о войне, в которых основательно смягчил духовный максимализм старших братьев. Его мальчики с Арбата, трогательные и чуть-чуть водевильные, уходят на войну иначе, нежели целеустремленные, поглощенные одной идеей герои Слуцкого и Когана, без эпохальных страстей и переживаний, симпатичной артистической походкой вчерашних десятиклассников, скорее «по-межировски», нежели «по-слуцки».
Наш король, как король,
Он кепчонку, как корону,
Набекрень – и пошел на войну.
Без романтического фанатизма, как бы уходя с театра жизни на театр военных действий, на опасную прогулку.
Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят,
И женщины глядят из-под руки,
В затылки наши круглые глядят.
Мальчики Окуджавы равно далеки от глобальных идей книжных романтиков и от живой народной стихии, они уходят на войну, как молодые симпатичные солдаты всех времен и народов: «На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат», «Нас время учило: живи по-привальному, дверь отворя, товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя», – тревожное, эстетически впечатляющее действо, симпатичный маскарад, волнующий душу, это не флибустьерство, но арбатская хемингуэйщина – с обязательным присутствием не матерей, не жен, а «женщин» вообще. У солдат должны быть женщины. «А где же наши женщины, дружок?» А где женщины – там и ревность, и неверность, и измены, – словом, все, что волнует солдата в последние часы перед разлукой.
Вы слышите, грохочет барабан,
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней…
Для Окуджавы война не расширила понятие родины. Он остался верен своему Арбату, его замкнутому братству и после войны:
Ах Арбат, мой Арбат, ты мое отечество…
Любопытно сравнить обстоятельства, при которых уходят на войну герои Слуцкого, Самойлова, Межирова, Окуджавы, с проводами новобранца из стихотворения Федора Сухова. Уходит он на войну не от азартного наслаждения покером и преферансом, не от ипподромных страстей и арбатской радиолы… Нет, он прощается с другим миром:
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.
Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, —
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.
А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера,
Рожь от жаркого солнышка млела.
Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овес, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.
Заиграла, запела гармонь,
Все сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.
В отдалении гром громыхнул,
Весь закат был в зловещем пожаре…
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали…
Здесь мы видим совершенное иное отношение к жизни и войне: никакого энтузиазма, никакого лихорадочного возбуждения, никакой романтической жертвенности, никакого инфантилизма. Юноша, словно бы генами всех живущих в нем поколений, ощущает, что от полнокровной жизни, от счастливого труда на родной земле его оторвала сверхчеловеческая сила, несущая только гибель и горе. За душой у него нет никаких иллюзий, никаких теорий, которые помогли бы ему в страшный час разлуки с родиной, невестой, матерью. «Я прощался с родной стороной, сам с собою, быть может, прощался», «губы мои задрожали», и зарево войны для него никакой не отблеск мировой революции, а «зловещий пожар».
Ну что с них было взять, с питомцев нэпа и певцов Мировой Революции! Крестьянские же их ровесники, выжившие во время поволжского голода 21 – 22 года и последующего голода эпохи коллективизации, нервным горячкам подвержены не были, но шли, послушные долгу, на призывные пункты, а оттуда, уже мобилизованные, нестройными рядами вливались в действующую армию.