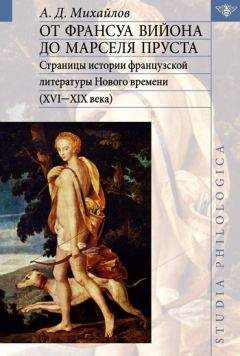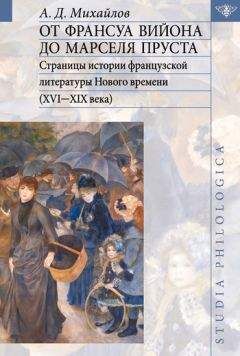Борис Дубин - Классика, после и рядом
Классика (будь то словесная, живописная или музыкальная) входит теперь в индустрию досуга и развлечений. Скажем, сюжеты классической живописи фигурируют в дизайне, в уличной или телевизионной рекламе, под классическую музыку танцуют на льду фигуристы, исполнение музыки отрывается от концертного зала (появление грамзаписи и т.д.), восприятие картины – от музея и галереи (книжная репродукция, фото, открытка, а теперь и Интернет). Удостоверение значимости образца осуществляется здесь через единение потребителя с другими такими же – приравнивание времени, синхронизацию, а значит, повторение. Символический авторитет выступает фокусом коллективной идентификации и интеграции, ритуалы которых воспроизводятся в репетитивном режиме. Но повторяется здесь, подчеркну, не только и не просто символ идентификации и акт единения – повторяется (тиражируется) его субъект. Это он становится воспроизводимым, в том числе – сам для себя (дело не в манипулировании извне), воспроизводимым в серийном виде и массовом масштабе, и таким образом получает социальное удостоверение, добивается социального утверждения.
3Особую, повышенную и ценностно нагруженную роль фигуры национальных классиков и проблема культурных заимствований приобретают, как уже упоминалось, в так называемых «запоздавших» нациях, где строительство национального государства, формирование национальных элит осложнено социально-культурными обстоятельствами и традициями, сдвинуто во времени на более поздние периоды. Таковы Германия, Россия, Италия, Испания, еще позже – Латинская Америка108.
Я бы типологически выделил здесь две стратегии «конструирования традиции». Пример одной – эпигонская учеба у классиков как программа формирования корпорации советских писателей во второй половине 1920-х гг. (горьковский журнал «Литературная учеба», выходивший с 1930 г., тома «Литературного наследства», издававшиеся с 1931 г., – вся симптоматика идеологического перенесения «центра мира» в Советскую Россию с соответствующими лозунгами типа «Мы – наследники» и проч.109). Нетрудно показать, что в корпус советской школьной и издательской классики включаются эпигоны панорамного «русского романа» XIX в., прежде всего – поэтики Льва Толстого, а в определенной степени и его коллективистской антропологии (Алексей Н. Толстой, Александр Фадеев, Михаил Шолохов, Константин Федин и др.). Трансформации толстовской эпики в ходе подобной учебы, а далее – в процессах школьной индоктринации, театральных постановок, киноэкранизаций и проч. составляют в подобных случаях особый план исследовательского интереса. Перспективным предметом исследований ранней советской словесности может стать роль «фольклора», Пушкина и Толстого в представлениях о литературной норме – при вытесненной, но актуальной (скажем, для Леонида Леонова или Михаила Зощенко) криптотрадиции Гоголя, Достоевского, Чехова110. Не менее любопытен был бы анализ формирования и трансформаций канона в советской поэзии – имею в виду официально допущенную или, по выражению Ольги Седаковой, «другую поэзию», включая эстрадно-песенную111.
Иной тип самосознания и поведения – продумывание и демонстрация неуместности классикоцентризма на географической/хронологической периферии культуры, то есть европейской культуры в ее модерной трактовке. Такова, например, индивидуалистическая и рефлексивная, самосознающая и самоподрывная словесность в программных выступлениях и творческой практике Борхеса (см., например, его эссе «Аргентинский писатель и традиция», «По поводу классиков», «Кафка и его предшественники»; в том же контексте стоит рассматривать парадоксальные взгляды Борхеса на перевод и его собственную переводческую стратегию)112. Борхес деконтекстуализирует проблему традиции, выводя ее за рамки актуального времени и национальной литературы, в том числе – испанской. Значимая традиция для Борхеса – всегда универсальная, а не национальная. Она не ограничена рамками пространства, времени, языка113, в этом смысле она задана на будущее и потому открыта, а не завершена как пройденное, почему и оставлена в прошлом. Отсюда, в частности, его вызывающие, подчеркнуто антинационалистические – в расчете еще и позлить ла-платских патриотов – апелляции к Чосеру, Шекспиру и Расину, провокационные реплики о роли ирландцев в английской словесности и проч.
Борхес многократно называл имена писателей, заставляющих, по его мнению, принципиально иначе, нежели это общепринято, посмотреть на проблему традиции в литературе, усомниться в ее актуальности сегодня, задуматься о возможности иных точек отсчета для создания, соответственно, иной, не эпигонской словесности, в том числе – для иного использования языка. Эти имена – Джойс и Кафка (впрочем, нетрудно было бы сократить их до одного – Шекспира). Оба писателя представляют окраины «больших» национальных культур и их национальных языков, оба строят в своей прозе не социальную педагогику целостного, классического человеческого характера, а своего рода экспериментальную антропологию потерянной личности, которая в собственных действиях и их понимании не может и/или не хочет исходить из прошлого, отсылать к наследию, опираться на родство, нерефлексивно, с полным доверием использовать «материнский язык» и т.п. Беря слово «другой» в полноте значений, развитых уже на протяжении ХХ в., допустимо сказать, что это не просвещенчески-реалистическая репрезентация «базового характера», но «антропология другого» или, по позднейшему выражению Жоржа Батая и Мишеля де Серто, «гетерология»114.
Новый и куда более радикальный контекст для данной проблематики создают социальные процессы конца ХХ и начала ХХI вв. – явления глобализации, широкомасштабная миграция из стран «третьего мира» в США и развитые страны Европы, ставшая массовым и повседневным явлением. В этих условиях в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции и других европейских странах (о Соединенных Штатах нечего и говорить) складывается литература и культура мигрантов, так называемая гастарбайтер-словесность (-культура), фактически носящая межнациональный или наднациональный характер. Здесь, вероятно, стоило бы говорить уже о транснациональных или интеркультурных литературах115, которые используют язык большой традиции как откровенно чужой и не имеют никаких намерений в эту традицию вписываться, адаптироваться к ней, «учиться у классиков». Напротив, автор может писать при этом на языке чужаков – таков, скажем, «канак шпрак», «речь чужака», социолект турков в Германии, которым пользуется, например, Феридун Заимоглу (он так и назвал свой первый сборник стихов). Переписыванию в подобной перспективе подвергается и сама «большая» традиция. Характерен в этом плане пример того же Заимоглу. Он сделал новый перевод шекспировского (опять Шекспир!) «Отелло», где безусловно центральным, определяющим социостилистику текста становится тот факт, что Отелло – мавр, пришелец, маргинал, изгой116.
Представляется, что в подобных условиях проблема классики, ее литературо– и культуростроительной роли если не вовсе теряет смысл, то кардинальным образом его меняет. Упомяну лишь один момент: речь идет о словесности, которую не проходят в школе, и не просто «пока не проходят», но которая сама не ориентирована на подобную цель – быть эталонной и всеобщей. Еще очевиднее это в практике авторов, пишущих на заведомо не универсальных, не общедоступных языках – таковы, например, сегодня стихи и проза Ивара Ш’Вавара, который пишет на пикардийском, используя также фонетическое письмо, близкое российскому «языку падонков», а переводит на пикардийский не только с английского и французского, но и с бретонского (точнее, он живет на нескольких «больших» и «малых» языках, но такова же многоязычная практика многих иммигрантов в Германии или Швеции). Характерно, что Ш’Вавар работает под несколькими десятками масок-гетеронимов, чаще всего, опять-таки, ино– или вненациональных, включая женские (от Конрада Шмитта до Мамара Абдельазиза и Сильвена Ауджи, от Матильды Бусмар до Мари-Элизабет Каффьез), так что его литературные предприятия чаще всего принимают форму мнимой антологии, антологической мистификации117.
Понятно, насколько серьезные последствия эти обстоятельства имеют для теории и практики литературной интерпретации. И, прежде всего, такой интерпретации, которая основана на аксиоматике традиции и наследования, фигуре «национального гения» и понятии «авторского замысла» как проекциях ценностных устремлений национальной культуры и национального сообщества, его элит, на парадигмах предназначения нации и ее «избранных», «лучших» представителей. Собственно говоря, к таким же последствиям ведет необходимость учесть разнообразные гетерологии в других искусствах – скажем, так называемое «искусство душевнобольных», «музыку аборигенов» и т.п.