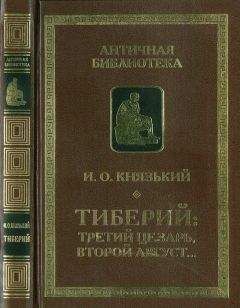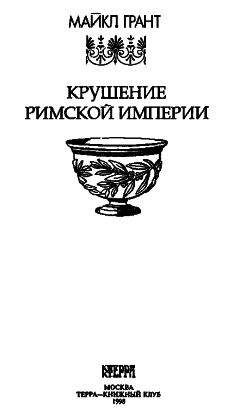Дмитрий Мамин-Сибиряк - Сестры. Очерк из жизни Среднего Урала
— Преступление несомненно, но нет ли у вас, Александра Ивановна…
— Александра Васильевна, — поправил я его.
— Да, да, виноват: Александра Васильевна, действительно Александра Васильевна… Помню, да, помню. Извините… Следы преступления скрыты с замечательным искусством, но не теряйте надежды, Александра Ива… то бишь, Александра Васильевна! Нет ли у вас… гм!.. Нет ли у вас…
— Вы хотите сказать, господин следователь, нет ли у меня каких-нибудь подозрений на кого? — помогала Александра Васильевна затруднявшемуся Цыбуле.
— Нет, не то…
— Других свидетелей?
— Нет… Нет ли у вас водки, Александра Васильевна?
Эта сцена была так неожиданна и так вышла забавна, что заставила улыбнуться даже Александру Васильевну; водка нашлась, Цыбуля обратил на нее такое усердное внимание, что опять потерял всякую способность сосредоточить его на каком-нибудь другом предмете. Народ прибывал, избушка была битком набита людьми; часов в одиннадцать прискакал Муфель в сопровождении Ястребка и других заводских служащих.
— А шерт возьми!.. Швин… канайль! — ругался он, продираясь сквозь густую толпу в избу; в сенях он встретился с Александрой Васильевной и крепко пожал ей руку. — Это ушасно… Мой все разберет!.. Ви не проливай слес…
Что-то вроде участия слышалось в этих бессвязных словах, и Муфель на минуту превратился в порядочного человека — может быть, сказалась в нем добрая немецкая натура или уж в известные критические моменты и в дураке пробивается искра человеческого чувства.
Последними приплелись о. Андроник и Асклипиодот, оба верхами на самых жалких клячах; о. Андроник ехал с своей длинной поповской палкой в руке, Асклипиодот держал в руках большой узел с ризой, кадилом и свечами. Отец Андроник тяжело слез с лошади, вытер грязные сапоги самым тщательным образом о траву и вошел в избу с строгим выражением на лице, какого я никогда не замечал у него; он благословил Александру Васильевну широким крестом и сказал ей несколько слов в утешение. Из всего, что слышала бедная женщина в течение этого несчастного утра, это утешение о. Андроника пришлось ей больше всего по душе, и она в каком-то детском порыве прильнула лицом к его громадной, покрытой волосами руке, на которую так и посыпались из ее глаз крупные слезы.
— Не плачьте, днем раньше, днем позже все там будем… Бог все видит: и нашу правду, и нашу неправду… Будем молиться о душе Гаврилы Степаныча… Хороший он был человек! — со слезами в голосе глухо заговорил о. Андроник и сморгнул с глаза непрошеную слезу. Меня поразила эта перемена в о. Андронике и то невольное уважение, с которым все относились теперь к нему; он ни разу не улыбнулся, был задумчив и как-то по-детски ласков, так что хотелось обнять этого добрейшего и милого старика.
— Батюшка… я думала, что умру… сойду с ума! — шептала Александра Васильевна.
— Александра Васильевна, нужно уметь принимать и горе от того, кто посылает нам радости, — продолжал о. Андроник. — Вспомните, что сказал Иов: «Господь даде, господь отъя — не возропщи, душа моя».
Через полчаса в передней избе, на своем письменном столе, одетый в черный сюртук, лежал Гаврило Степаныч; его небольшая голова с посиневшим лицом лежала на белой подушке, усыпанной живыми цветами; о. Андроник стоял в черной ризе с кадилом в руке, Асклипиодот прижался в угол. Началась лития.
— О блаже-еннн-ом успении новопредставленного раба твоего… и сотво-ори-и ему ве-е-ечную па-амять! — речитативом затянул о. Андроник немного дрогнувшей октавой.
— Ве-е-ечная память… — пел своим удивительным баритоном Асклипиодот, совсем спрятавшись в угол. Восковые свечи горели тусклым красным пламенем; дым ладана густыми волнами тянул в открытые окна, унося с собой торжественно грустный мотив заупокойного пения, замиравший в глухом шелесте ближнего леса… Фатевна, как единственная женщина, бывшая теперь на Половинке, стояла около Александры Васильевны, поддерживала ее одной рукой и что-то шептала на ухо, а потом с ожесточением начинала класть широкие кресты и усердно отбивала земные поклоны; убитый, бледный Мухоедов стоял в углу, рядом с Асклипиодотом, торопливо и с растерянным видом крестился и дрожащим голосом подхватывал «вечную память». Врачи с любопытством заглядывали в двери, но в избу войти не решались; Цыбуля и Слава-богу сидели в кухне, пили водку и шепотом рассказывали друг другу какие-то, вероятно, очень пикантные анекдоты, потому что хохотали до упаду. В сенях и на крыльце толпились понятые и какие-то неизвестные мужики, таинственным шепотом что-то передававшие друг другу и пальцами указывавшие на Александру Васильевну.
— В самое сердце запалил, — говорил какой-то обдерганный мужик. — Из турки, надо полагать, двинул…
— Наскрось пуля-то прошла, — отвечал другой.
Это гнусное убийство из-за угла произвело на меня вместе с бессонной ночью какое-то неопределенное чувство тупой боли и необыкновенной раздражительности. Я не мог молиться, не мог ни на чем сосредоточить мысли, в душе было только одно определенное желание — выгнать из избы весь этот народ, набившийся в нее из грубого и обидного любопытства. Меня раздражала эта общая бестолковая толкотня и общее желание непременно что-нибудь сделать, когда самым лучшим было оставить Половинку с ее тяжелым горем, которое не требовало утешений, оставить того, который теперь меньше всего нуждался в человеческом участии и лежал на своем рабочем столе, пригвожденный к нему мертвым спокойствием. Нить жизни, еще теплившаяся в этом высохшем от работы, изможденном теле, была прервана, и детски чистая, полная святой любви к ближнему и незлобия душа отлетела… вон оно, это сухое, вытянувшееся тело, выступающее из-под савана тощими линиями и острыми углами… вон эти костлявые руки, подъявшие столько труда… вон это посиневшее, обезображенное страданиями лицо, которое уж больше не ответит своей честной улыбкой всякому честному делу, не потемнеет от людской несправедливости и не будет плакать святыми слезами над человеческими несчастьями!..
«О, люди-звери, люди-звери! — думал я. — Зачем вы заставили молчать это сердце, которое билось святой любовью к вам? Неужели еще нужна была кровь этого страдальца, чтобы он искупил ей свою любовь к людям…»
Пред моими глазами быстро сменялись картины тихого недавнего счастья, свидетелем которого невольно сделался я… Сколько напомнила мне эта комната, в которой теперь лежал покойник, волнами ходил дым ладана, тускло горели восковые свечи и тянуло за душу похоронное пение! Как живая стояла предо мной сцена нашего прощанья… «Скоро увидимся…» Да, мы увиделись. И за что? Кто убийца? Неужели этот Филька? Я вспомнил историю с бревном, но не мог же Филька из-за этого бревна убить человека. «Сестры» подвели… но уж если они захотели бы подвести, то, наверно, не обратились бы к Фильке, который не вытерпит и разболтает. Словом — все было неясно, сбивчиво, темно и вдобавок ко всему этот пьяный Цыбуля с Муфелем, это назойливое любопытство… Только одни о. Андроник и Асклипиодот были хороши, первый своим величавым спокойствием, второй скромностью, да еще Мухоедов, весь подавленный своим безмолвным горем; Александра Васильевна больше не плакала, она стояла с восковым лицом и машинально делала то, что делали другие: крестилась, кланялась в землю, поправляла оплывавшую свечку, которая слегка тряслась в ее маленькой руке.
В течение трех дней я и Мухоедов не выезжали из Половинки. Асклипиодот читал над покойником, когда он уставал, мы сменяли его; о. Андроник ежедневно приезжал служить литию, беседовал отечески с Александрой Васильевной и сообщал нам последние известия о ходе судебного следствия. Оказалось, что Филька решительно ни в чем не виноват, а просто со страху переврал; его ружье действительно оказалось в починке, только у другого мастера, фамилию которого он перепутал; все соседи подтвердили последнее показание, и Филька был выпущен на свободу. Мухоедов совсем был уничтожен этим известием и, кажется, начинал сильно сомневаться в талантах Цыбули, который хотя и поклялся ожесточенным образом открыть убийцу, но пока без просыпу пьянствовал с Муфелем.
К довершению всех бед на Половинку явились три племянника и две племянницы Гаврилы Степаныча, которые были встречены Александрой Васильевной с большой радостью, но, в ответ на ее любезность, они держали себя самым двусмысленным образом, постоянно шептались между собой и вообще вели себя по отношению к Александре Васильевне просто неприлично. Мухоедов был возмущен до глубины души их поведением и пришел в полное бешенство, когда открылись истинные причины приезда родственников, и особенно их образ действия. Он таинственно отвел меня в сторону и с дрожавшей нижней челюстью и побелевшими губами сообщил мне:
— Представь себе: они явились за наследством и намерены пустить Александру Васильевну по миру… Как это тебе понравится? Это в благодарность за то, что Гаврило вывел их в люди десятилетним трудом… О подлецы, подлецы! Да это еще ничего, они требуют непременно сейчас же произвести опись всего движимого имущества… Это какие-то разбойники, а не люди!..