Виталий Шенталинский - Преступление без наказания: Документальные повести
Час одиночества и тьмы
Поезд с Дзержинским уже подходит к Петрограду. А там продолжается вакханалия арестов. Убийца Урицкого, не зная, что родные его уже в тюрьме, пишет им успокоительные записки, которые, разумеется, дальше следователей не идут и оседают в деле. Судя по тону, он не только обрел стойкость духа, но даже пребывает в некоторой эйфории.
«Умоляю не падать духом. Я совершенно спокоен. Читаю газеты и радуюсь. Постарайтесь переживать все за меня, а не за себя и будете счастливы». Это — отцу.
Что же он читает в газетах, которые, стало быть, дают ему в тюрьме? Петроградские газеты 31 августа залиты трауром, кроме срочного сообщения о покушении на Ленина, они информируют о церемониале предстоящих торжественных похорон Урицкого на Марсовом поле. «Пуля попала в глаз, смерть последовала через час», — нечаянно рифмует «Северная коммуна», что наверняка не ускользает от внимания поэта-террориста. И лозунги, лозунги, лозунги разлетаются шрапнелью, один кровожадней другого! «Ответим на белый террор контрреволюции красным террором революции!» «За каждого нашего вождя — тысяча ваших голов!» «Они убивают личностей, мы убьем классы!» «Смерть буржуазии!»
Чему же он радуется? Неужто не понимает, что содеял? Неужели ему не жалко своих близких, которых он прежде всего ставит под удар? Неужели еще не уразумел, что за одного Урицкого погибнут тысячи невинных по всей стране, что кровь его жертвы не только не искупит крови его погибших друзей, но вызовет целые реки, целое море новой крови? Или наивно верит: его выстрел — сигнал к восстанию, начало конца для большевиков? Кто-то должен начать, а там само пойдет, заполыхает, все равно им разбойничать недолго. Так тогда думали многие. Юный делатель истории не видит: его теракт, его личный подвиг лишь на руку большевикам, которые только тысячекратно превосходящим террором в состоянии удержать власть.
Человек в революции, он не мог осмыслить революции. Волны событий тащили и опережали его, и он не был способен постигнуть их истинного смысла и масштаба. Увы, это почти всегда бывает в истории. И так трудно остановиться у той грани, которую нельзя переступать ни при каких обстоятельствах, во имя любых идеалов. Способ совершения поступка иногда важнее самого поступка. Только Бог умеет превращать зло в добро, человек же часто наоборот — желая добра, творит зло.
Матери: «Я бодр и вполне спокойный. Читаю газеты и радуюсь. Был бы вполне счастлив, если бы не мысль о Вас. А Вы крепитесь».
И вот вечером 31 августа убийцу вызвали на допрос к самому Дзержинскому. Протокол вел все тот же Николай Антипов, следователей не пригласили. Этот документ уместился всего в несколько строк:
Протокол допроса
Леонида Акимовича Каннегисера, еврея — дворянина, 22 лет
Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией Председателем Всероссийской комиссии тов. Дзержинским показал:
На вопрос о принадлежности к партии заявляю, что ответить прямо на вопрос из принципиальных соображений отказываюсь. Убийство Урицкого совершил не по постановлению партии, к которой я принадлежу, а по личному побуждению. После Октябрьского переворота я был все время без работы и средства на существование получал от отца.
Дать более точные показания отказываюсь.
Леонид Каннегисер
Результат допроса равен нулю. Выходит, зря, бросив сверхважные и сверхсрочные дела, специально мчался в Петроград Железный Феликс? Ровным счетом ничего не смог выжать главный страж революции из этого барчонка! Нашла коса на камень! Мальчишка чувствует себя победителем!
Что в вашем голосе суровом?
Одна пустая болтовня.
Иль мните вы казенным словом
И вправду испугать меня?
Холодный чай, осьмушка хлеба.
Час одиночества и тьмы.
Но синее сиянье неба
Одело свод моей тюрьмы.
И сладко, сладко в келье тесной
Узреть в смирении страстей,
Как ясно блещет свет небесный
Души воспрянувшей моей.
Напевы Божьи слух мой ловит,
Душа спешит покинуть плоть,
И радость вечную готовит
Мне на руках своих Господь.
Стихи Л. Каннегисера, написанные в одиночке Петроградской ЧК
Леонид ведет в тюрьме два диалога с миром: кроме формального, с чекистами, — и внутренний, наедине, языком поэта.
Стихотворные наброски — трудноразборчивые, с перечеркиваниями и исправлениями — уцелели в деле, среди канцелярщины. Продолжение встречи-поединка с Дзержинским, последний порыв творчества — уже на пороге вечности. Леонид воспаленно заполняет словами, вкривь и вкось, сплошь, весь лист, будто в страхе, что не останется бумаги, чтобы выплеснуться, выразить себя. Строчка набегает на строчку, одно стихотворение захлестывает другое. Но другие стихи вызваны событиями уже следующего дня.
В воскресенье 1 сентября Петроград хоронил Урицкого. Массово и торжественно. Траурная процессия — от Таврического дворца — растянулась на несколько верст: район за районом, делегации от заводов и учреждений, армии и флота. Смотр революционной решимости.
Гремят оркестры. Кружат аэропланы. Грохочут броневики.
Марсово поле, где всего два дня назад Леня Каннегисер брал велосипед напрокат. Красные знамена, черные всадники, белый катафалк. Открытый дубовый гроб, обитый кумачом, крышка откинута, желтое лицо — среди цветов. Гора венков, среди них — от чекистов: «Светить можно — только сгорая!» И речи, речи, речи красных вождей, лучших большевистских ораторов, во главе с Зиновьевым. «Счастлив тот, кому суждено принести свою жизнь в жертву великому делу социализма…» «На долю товарища Урицкого выпала самая тяжелая работа в революции…» «Не зная ни дня, ни ночи, стоял на своем посту…» «Расправа, самая беспощадная расправа со всеми, кто против!» «Какие бы препятствия ни стояли на нашем пути, победа будет не за Каннегисерами, а за Урицкими, не за капитализмом, а за ленинизмом, ведущим нас к установлению коммунистического строя во всем мире!»
На трибуне — «красный Беранже», поэт Василий Князев. Читает стихи, написанные специально по этому похоронному случаю, — в тот же день они появились в «Красной газете» под заглавием «Око за око, кровь за кровь»:
Мы залпами вызов их встретим —
К стене богатеев и бар! —
И градом свинцовым ответим
На каждый их подлый удар…
Клянемся на трупе холодном
Свой грозный свершить приговор —
Отмщенье злодеям народным!
Да здравствует красный террор!
Прощальный салют с Кронверка Петропавловской крепости, возможно, доносится и до камеры на Гороховой. А газета со стихами Князева уж точно попадает к Леониду — не иначе, как специально дают, для устрашения, — и тут же вызывает у него стихотворный отклик:
Поупражняв в Сатириконе
Свой поэтический полет,
Вы вдруг запели в новом тоне,
И этот тон вам не идет.
Язык — как в схватке рукопашной:
И «трепещи», и «я отмщу».
А мне — ей-богу — мне не страшно,
И я совсем не трепещу.
Я был один и шел спокойно,
И в смерть без трепета смотрел.
Над тем, кто действовал достойно,
Бессилен немощный расстрел…
Да, адресат этого стихотворного наброска, несомненно, певец красного террора Василий Князев! Он сотрудничал когда-то в журнале «Сатирикон» и поначалу Октябрьскую революцию не принял, высмеивал большевиков в своих фельетонах, а вот теперь «запел в новом тоне».
Стоять им недалеко друг от друга в литературной энциклопедии — Каннегисеру и Князеву. Как в горячечном бреду живут они оба в угаре революции, и за каждым — своя правда, своя эстетика и поэтика, непримиримые, исключающие друг друга.
Побег
В двери камеры — глазок, и в нем — неусыпный человеческий глаз. Непосредственный стражник, приставленный к убийце и заодно передающий ему газеты — «коммунар М. Спиридонов», как именует он себя в докладах. Следователи Отто и Рикс называют его иначе — «бывшим каторжником», то есть уголовником, в отличие от почтенного «каторжанин». Время, полное химер: к поэту-террористу приставлен каторжник-коммунар. Спиридонов готов на все, лишь бы заслужить милость чекистов, и по их заданию втирается в доверие к узнику.
1 сентября с.г. я стоял на посту у Леонида Акимовича Канегисера и постаравшись залучиться симпатией и доверием, что мне и удалось. По просьбе его передать письмо кому-либо оставшимся в доме родственников я взялся исполнить. Но как семья вся арестована, а в доме засада, то в этот же день была снята копия тов. Силевичем, — коряво рапортует коммунар-каторжник.
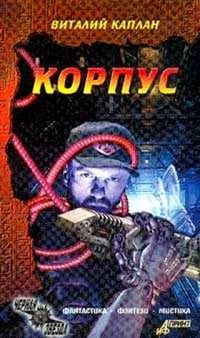

![Виталий Шенталинский - Охота в ревзаповеднике [избранные страницы и сцены советской литературы]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
