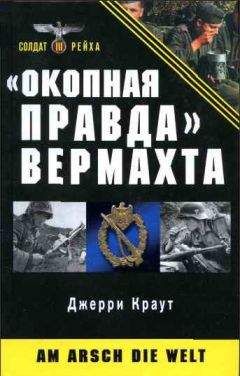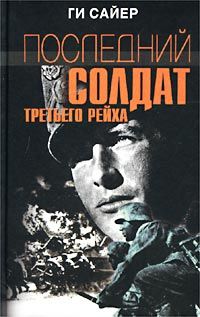Василий Немирович-Данченко - Соловки
У нас быстро завязался разговор. Темою послужило недавнее монастырское неустройство, вызвавшее присылку из Петербурга следственной комиссии. В это время особенно гнал настоятель моего теперешнего собеседника, честная душа которого не мирилась с тем, что он видел в излюбленном им монастыре.
— За что же он гнал вас?
— А за то, что посметливей других выхожу. Он меня чуть было не удалил отсюда настоятелем в Онежский крестный монастырь. Едва-едва я отделался. Лучше бы помер, чем туда пошел. Я этот монастырь хорошо знаю. Строил его после пожара.
— Вы строили?
— Я самый. Вы смотрите, небось, что грамоты не знаю. Это у нас ничего. Гостиницу нашу видели?
— Еще бы. Громадное здание и, как видно, выстроено архитектором первого разбора!
— Этот архитектор — я самый и есть. Моих рук дело. Скиты тоже строил. Гостиницу в одно лето вывели. Сам архимандрит кирпичи таскал!
— Ну, этого быть не может, чтоб в одно лето!
— Справьтесь. Кирпичи предварительно три года заготовляли, а гостиницу в четыре месяца вывели всю и отделали!
Я вспомнил отзыв Диксона об этой постройке простого, неученого воронежского крестьянина: «Направо от нас большой отель, такой красивый, чистый и светлый, что любой отель на итальянских озерах не веселее и не привлекательнее его»; пришлось невольно подивиться этой богато одаренной натуре.
— Отчего же вы не захотели ехать в Онежский крестный монастырь настоятелем?
— Я - монах, а там господа больше. По 70 руб. рясы носят. Прости, Господи, осуждение мое. Разве это иноки? Роскошествуют, мамона тешут. Не по-нашему. У нас — пища грубая, жизнь пустынная. Никуда бы я отсюда своей волей не ушел! — Лицо отца Митрофана сияло, словно озаренное, когда он описывал преимущества Соловецкого монастыря.
— Ну, а в город, в Архангельск, хотели бы?
— Монаху в городе не житье, назад рвемся. Дико нам между людей. Опять же и соблазны на каждом шагу…
Мы заговорили об образованных монахах.
— Спаси Бог от них, от образованных. Мужичок — наш работничек и кормилец, а образованный смуту сеет, да неустройству всякому глава. От них и обителей падение и посрамление чина иноческого пред мирянами. Нам без образованных хорошо живется: мы и без них устроили у себя все, что нужно. Образованные у нас ничего не поделали. Все наша братия, серое крестьянство, с помощью Всевышнего и угодников Зосимы и Савватия, созидала. Видал на берегу у нас большой подъемный кран с рычагом? — Крестьянин строил. Набережную видел? — Крестьянская работа; гавань тоже, доки — все мужицкие головы задумали, да мужицкие руки сделали. Отлично мы и без образованных справляемся. А заведись их поболее, чем теперь, — все прахом пойдет. Особливо ежели из дворян монахи. Те хорошо жить любят, тело свое покоить, да рученьки-ноженьки нежить. Ну, ослобонишь его от работы — смотришь, и другим пример дурной. Нет, счастье нам, что мы попросту живем. Давай Бог мужичков нам побольше, они все тебе сделают. Вот маяк построили. Да возьми хоть меня. Я мужик неученый, азбуки ведь не знаю; а я тебе без архитекторов дворец выстрою. Вот и эту обитель на Секирной горе я строил!
Мы всходили на секирный маяк, но тотчас же сошли вниз. Нужна была привычка. Гора и без него высока, а на ней это сооружение — высоты ужасной. Голова кружилась, все мешалось перед глазами.
Уже на возвратном пути с Секирной горы я узнал, что в числе монахов этого скита находится фотограф Сорокин, которому новый архимандрит запретил заниматься фотографией, находя ее неприличной для монаха. Не мешало бы только знать, что один из наших митрополитов, признанный святым, занимался химией и в области ее производил специальные исследования. Теперь Сорокина теснят, и его удерживает в монастыре только то, что тут же пострижены два его брата, а мать — инокиня холмогорского женского монастыря. Фотографа смиряют разными способами, то посылая его на работы, то уединяя в скиты, где всего-навсего живут 4–7 монахов.
А пейзажи Соловецкого острова действительно заслуживают фотографических снимков.
Возвращаясь домой, в гостиницу, мы вновь любовались теми же чудными картинами, но уже при розовом освещении заката, трепетавшем и в листве берез, и в струях озер, и в туманной дали лесной чащи, и в мураве поемного луга. А внизу, в глубине горных долин, уже курился пар, окутывая могучие стволы сосен серыми однообразными клубами. Грустное чувство охватывало душу, когда мы думали о скором отъезде отсюда.
Каждый холм, каждая гора здесь увенчаны часовнями, зеленые купола и золотые кресты которых мягко рисуются среди окружающего их пейзажа.
На половине пути — часовня с вырытым в ней колодцем. Вода здесь холодна, как лед. Тут останавливаются и отдыхают странники. Место чрезвычайно красиво, особенно когда на пролегающих скатах раскинутся пестрые толпы богомольцев и слышится отовсюду говор разноязычной толпы…
XXVIII
Еще несколько подробностей
Когда мы вернулись, была уже ночь. Северная летняя ночь — тот же день, только без солнца. Меня мучила бессонница, и я долго сидел у окна, глядя на прекрасную набережную, гавань и пароходы соловецкие. Вся окрестность наполняется несмолкающими криками чаек; глухой прибой морских валов казался фоном, на котором выделялся птичий гам.
Я думал обо всем, виденном мною на этих некогда пустынных и безлюдных островах. Я сравнивал их нынешнее благосостояние с положением такого торгово-промышленного центра, как Архангельск. Пришлось отдать преимущество монастырской общине, как это ни странно. В Архангельске, несмотря на его миллионные обороты, заграничный отпуск, торговлю хлебом, смолою, льном и пенькой, нет и десятой доли того, что поражает вас на каждом шагу в Соловках. В Архангельске, несмотря на то, что он весь в руках новых хитроумных улиссов-немцев, не найдете ни доков, ни таких гостиниц, ни такой набережной. Я уже не говорю о том, что здесь есть такие промышленные учреждения, о которых и не снилось городу.
«Наш крестьянин глуп, наш крестьянин беспечен, наш крестьянин неряшлив, наш крестьянин не способен к самодеятельности, не изобретателен» — на тысячи ладов проповедует пресса и в серьезных статьях, и в беллетристических очерках наших литераторов-жанристов. Отчего же, скажите на милость, здесь он и умен, и сметлив, и заботлив, и изобретателен, и чист в своей домашней обстановке, и самостоятелен, и готов тотчас отбросить старое, подметив что-нибудь получше, поновее у других? Отчего здесь он не является троглодитом, — какое троглодитом — тою гориллой, какою вы его рисуете на столбцах газет, на страницах журналов? Взгляните на него здесь, — какой у него самосуд, как он справляется со своими нуждами, со своими обязанностями. Тут он имеет возможность пьянствовать и не пьянствует, имеет возможность не работать, а работает хорошо, хотя и не чувствует над собой палки или не боится голода. Тут он, наконец, преисполнен сознанием собственного своего достоинства, как член могучего социального тела, и не поступится перед вами ни одним своим правом, так же как не забудет ни одной своей обязанности. Отчего это?
Дверь в мою комнату слегка претворилась.
— Не спите?.. Побеседовать разве?
— Заходите, о. Гавриил!
Это был коридорный.
— Как чайки ноне разорались. Экая птица беспокойная. А умная птица. Весной, тапериче, две чайки сначала прилетят, посмотрят, посмотрят — обойдут весь остров и улетят назад. Смотришь, через неделю, за ними — видимо-невидимо. Целые тучи!.. Соглядатаев, как Иисус Навин, пущают. Что и говорить, птица бойкая!.. А зимой у нас вороны!
— Что же ворон летом не видать?
— А чайка гоняет… заклевывает. Она птица смелая. С легким сердцем птица. А жрет сколько — страсть. Много и зверья разного. Лисиц мы в зиму штук тридцать имаем. У нас зверь ручной, он не бежит: имай его; сам в руки дается. На горе Секирной, у о. Митрофана, куница есть, что твоя кошка: заберется в рукав к нему, на шею сядет. Затейница! У нас зверь чувствует, что тут ему льгота предоставлена. Мы одного немца таково ли по шеям накостыляли — страсть. Забрался он в леса наши, да давай зверя стрелять. Он, паршивый, того и понять не может, что ему на час забава, — а у нас навсегда зверь пуганый будет. Экая у них жадность, право!
— Зимою у вас рабочим скучно, поди?
— Лучше зимою. Крестьянину у нас — лафа. Кормят его так, как он дома по великим праздникам не едал: без мяса и рыбы за стол не сядет. Пироги им дают. Одевают их чисто, тепло. И так он к чистоте этой приобвыкнет, что потом и дома у себя тоже наблюдает, чтобы округ грязи не было. Работать не заставляем, а сколько усердия есть. Ежели человек бедный, воитель и деньгами поможет. Ну, а кто человек зажиточный, работать не хочет, а так восчувствует желание провести в монастыре год — заплати сто рублей и живи. Келью дадим отдельную, платье, стол. Радуйся да замаливай грехи вольные и невольные… А грехов у нас много. И за всякий грех ответ держать придется…