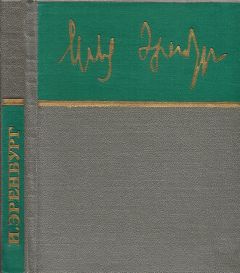Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах
Париж многому меня научил, он раздвинул стены моего мира. Часто этому городу приписывают веселье; по-моему, Париж умеет грустно улыбаться — таковы его дома, таковы его поэты, таковы и глаза его девушек; это умение быть радостным в печали, печальным в радости порой его окрыляет, порой подрезает его крылья. Впрочем, об этом мне придется не раз говорить, когда я перейду к событиям последующих десятилетий; тогда я подобных выводов не делал.
Париж меня учил, обогащал, разорял, ставил на ноги и сбивал с ног. Все это в порядке вещей: когда человек что-то приобретает, он одновременно что-то теряет — идешь вперед и навеки расстаешься с теми радостями и белами, которые еще вчера были твоей жизнью.
15
С Бальмонтом мне не повезло. Когда я начал писать стихи, его книги мне казались откровением; я мечтал когда-нибудь увидеть человека, написавшего «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». Познакомился я с Константином Дмитриевичем два года спустя; многое в его стихах мне уже казалось смешным — я боготворил Блока, читал Анне не кого, Сологуба, Гумилева, Мандельштама. Бальмонт вовремя увидел солнце, а я опоздал на Бальмонта.
Я познакомился с Константином Дмитриевичем в 1911 году; ему тогда было сорок четыре года. Я знал, что он живет в Париже, и, разумеется, послал ему мою первую книгу. Бальмонт был человеком чувств, жизнь его изобиловала случайностями, порой драматическими. Он, например, дважды оказывался эмигрантом; если применять обычные этикетки, в первый раз красным, во второй — белым. После разгрома революции 1905 года Бальмонт возмутился расправами, свистом нагаек, виселицами; он издал за границей «Песни мстителя» — книгу с весьма благородными чувствами и с весьма плохими стихами. Он называл Николая Второго «кровавым палачом». Хотя книга была на редкость слабой, царь рассердился, и Бальмонту пришлось перейти на положение эмигранта. Только в 1913 году великий князь Константин (посредственный стихотворец, подписывавшийся К. К.) выпросил у Николая амнистию Бальмонту.
Константин Дмитриевич жил на улице Пасси (впоследствии в этом районе обосновалась белая эмиграция). У него часто бывали гости — и русские парижане, и приезжие из России, и французы. Он пригласил меня. В тот вечер я был единственным гостем. Жена Константина Дмитриевича, высокая, красивая женщина, меня приняла сердечно, я сразу перестал стесняться, забыл, что передо мной знаменитый поэт. Никуда я в гости не ходил, бывал только в кафе или у художников в нетопленых грязных мастерских, а здесь я попал в русский дом, теплый, светлый; меня напоили чаем; маленькая дочка Константина Дмитриевича, Ниника, шалила. Все было чудесно и обыденно. Все, кроме внешности хозяина: Бальмонт был необычаен.
Париж трудно удивить, но я не раз видел, как на Бальмонта оглядывались, когда он проходил по бульвару Сен-Жермен. В Москве в 1918 году люди хмуро шли с кошелками, некоторые тащили салазки; было холодно, голодно, и все же прохожие дивились: посередине мостовой шествовал рыжий чудак, с головой, поднятой к серому небу.
В молодости Бальмонт пытался кончить жизнь самоубийством — выбросился из окна; он повредил себе ногу и всю жизнь слегка прихрамывал; шагал он быстро, и казалось, что скачет птица, привыкшая скорее летать, чем ходить.
У него было лицо то чрезвычайно бледное, то цвета меди, зеленые глаза, рыжая бородка, рыжие волосы, которые кудрями спадали на спину. Среди экскурсантов, приезжавших в Париж, которых я обслуживал, был один священник: заметив, что кто-то при виде его засмеялся, он стал стыдливо прятать свои волосы под шляпу, закалывая их шпильками. А Бальмонт кудрями гордился. Он походил на тропическую птицу, случайно залетевшую не на ту широту.
Он вежливо предложил мне почитать стихи, говорил «хорошо… хорошо» — вероятно, хотел приласкать молодого автора. Потом он встал и начал читать свои произведения. Стихи на меня не произвели впечатления — начиналась эпоха его поэтического заката, — но я был поражен голосом, вдохновенным и высокомерным: он читал, как шаман, знающий, что его слова имеют силу если не над злым духом, то над бедными кочевниками. Он говорил на многих языках, на всех с акцентом — не с русским, а с бальмонтовским; особенно своеобразно он произносил звук «н» — не то по-французски, не то по-польски. В стихах было много рифм с длинными «н» — «священный», «вдохновенный», «презренный», — и он их тянул с явным удовольствием.
Иногда он звал меня к себе; я встречал у него московских меценатов, французских переводчиков, восторженных поклонниц.
В Париж приехал из Одессы молодой поэт Марк Талов, говорил, что ему пришлось оставить родину, что у него там невеста; он бедствовал; читал свои стихи:
Здесь я постиг всю горечь одиночества,
Здесь муки начинаются мои.
Нет у меня ни имени, ни отчества.
Ни родины, ни счастья, ни семьи.
Мы посмеивались, когда он повторял нам, что невеста ждет его возвращения. (Он вернулся в Одессу десять лет спустя, и невеста действительно его ждала.) Талову очень хотелось прочитать свои стихи Бальмонту; я его взял с собой, но он от смущения сбился и вместо стула сел на горячую железную печку. Все рассмеялись, а Бальмонт принялся хвалить стихи, которых он так и не услышал.
Бальмонт то молчал, рассеянно глядя по сторонам, то оживлялся, рассказывал про Египет. Мексику, Испанию. Все страны в его рассказах выглядели фантастическими; он изъездил, кажется, весь мир, но увидел при этом только одну страну, которой нет на карте, я назову ее Бальмонтией.
Чехов о нем писал: «Он хорошо и выразительно говорит, только когда бывает выпивши». Я часто встречал Константина Дмитриевича в кафе. После двух трех рюмок коньяку он действительно становился прекрасным рассказчиком; я видел то чопорных пансионных хозяек Оксфорда, то колдуна с Явы, то Валерия Яковлевича Брюсова, увлекавшегося магией. Неизменно Бальмонт повторял какой-то старинный грузинский заговор, где речь шла о черном цвете. Унять его было невозможно. Он кричал своей спутнице: «Я хочу уйти в ночь! Елена, не противоборствуй!» Было в его облике нечто величественное и жалкое, высокомерное и ребячливое.
Его сравнивали с Верленом: алкоголь, музыка, детскость. Но Бальмонт, в отличие от «бедного Лелиана». был человеком высокообразованным; он прочитал множество книг. Он переводил поэзию различных эпох, различных стран: Шелли и Кальдерона, Руставели и Уитмена, Леопарди и Словацкого, Блейка и Гейне, Эдгара По и Уайльда. Старые песни Египта и стихи Поля Фора в переводе Бальмонта звучали одинаково. Как в любовных стихах он восхищался не женщинами, которым посвящал стихи, а своим чувством, — так, переводя других поэтов, он упивался тембром своего голоса.
Он любил грандиозное: горные вершины, пропасти, океан. Художник Брак как-то сказал, что нужно уметь линейкой проверять вдохновение; Бальмонту такие слова показались бы мещанством — он жил оптом. Он писал стихи с быстротой стенографистки. Он посвящал одну и ту же книгу целой веренице лиц от «брата моих мечтаний, поэта и волхва, Валерия Брюсова» до «Люси Савицкой, с душою вольной и прозрачной, как лесной ручей». Вот любовные стихи в книге «Будем, как солнце»; одно следует за другим, и все с именными посвящениями: «Бэле», «мисс Нэти», «Н. К. Мазинг», «графине Е. В. Крейц», «княжне М. С. Урусовой», «Н…», «Р…», «Уличной испанке», «Марии Финн», «О. Н. Миткевич», «Дагни Кристенсен», «Люсе»…
В 1917–1918 годах я несколько раз встречал его в Москве. Он оставался верен себе. Революция его сердила своей настойчивостью: он не хотел, чтобы история вмешивалась в его жизнь. Не раз он страстно влюблялся и остывал, писал об этом в стихах. Он думал, что так же легко может распроститься с эпохой: «Этим летом я Россию разлюбил…» Однажды я прочитал ему мои стихи: о казни Пугачева, о расплате. Константин Дмитриевич сначала недовольно морщился, потом написал в моей записной книжке:
Я считал варварскую речь,
Молитву-крик и песню и лике стона.
Но не хочу тебя предостеречь.
Ты хочешь срыва? Мощь сладка уклона.
Будь варваром. Когда парит пожар.
Лишь варвар юн и смел.
Не прав лишь тот, кто стар.
Внизу дата — 28 декабря 1917 года. Три или четыре года спустя он уехал в Париж и там решил, что прав только он. Его политические стихи с проклятиями революции столь же беспомощны, как «Песни мстителя». Он снова оказался эмигрантом, но уже не на несколько лет, а пожизненно; бедствовал; припадки запоя учащались.
В 1934 году я его встретил на бульваре Монпарнас. Он шел один, постаревший, в потертом пальто; по-прежнему висели длинные кудри, но уже не рыжие, а белые. Он узнал меня, поздоровался. «А мне говорили, что вы в России…» Я ответил, что недавно вернулся из Москвы. Он оживился: «Скажите, меня там помнят, читают?» Мне стало жаль его, я солгал: «Конечно, помнят». Он улыбнулся и пошел дальше с высоко поднятой головой, бедный низложенный король.