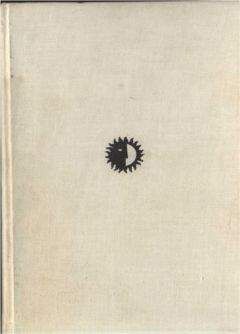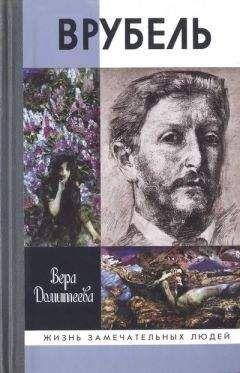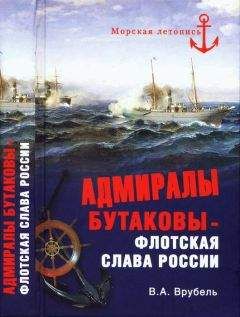Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
С.К.: Надо поехать туда, хотя природа божественна везде.
И.В. – Г.: Стась, а вот современная поэзия – это новый русский способ выражения стихами?
С.К.: Мне Пригова читали, еще кого-то. Если мне неприятно, я не запоминаю.
И.В. – Г.: Но ты сам в этом виноват. Ты своим отстранением дал поэзии сдвинуться в недуховную область.
С.К.: Может быть. Но сейчас – пожалуйста, двигайтесь в мою сторону. Не движется. А старое – тут я ни при чем. Это суд Божий, как получилось, так и получилось. Я вообще был таким человеком, что меньше всего была надежда думать, будто я со своим интеллектом и душой дойду до чего-нибудь настоящего. Так получилось.
И.В. – Г.: Какова твоя иерархия русской поэзии? Хлебников?
С.К.: Хлебников. Пушкин, конечно, но я от него немного отстранен. Что мне нравится у Пушкина – это я как профессионал говорю, – его последние стихи, в которых он стал совсем другим. Звук другой – а меня это интересует. Он по-другому подходил к христианству, а поэзия меняла форму. Она становилась менее жирной, менее чувственной.
И.В. – Г.: Какие стихи ты имеешь в виду?
С.К.: Последнего периода, самые незаметные.
Альфонс садится на коня,
Ему хозяин держит стремя.
«Сеньор, послушайте меня:
Пускаться в путь теперь не время… —
и так далее.
«Маленькие трагедии», если ты помнишь. Или:
Было время, процветала в мире наша сторона;
В воскресение, бывало, церковь божия полна.
И.В. – Г.: Прямо теперешние стихи Красовицкого.
С.К.: Звук совсем другой. Абсолютно другой звук у него стал. И вот последнее его стихотворение:
Забыв и рощу, и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет, и брызжет воду,
И песнью тешится живой…
Кто мне нравится почти целиком – это Жуковский.
И.В. – Г.: Потому что ты любишь баллады?
С.К.: Да, он был замечательный переводчик баллад. Фразу «Победившему ученику от побежденного учителя» Жуковский сказал просто так, он относился к Пушкину свысока, говорил ему «ты» (а Пушкин ему – «вы»). И Пушкин спрашивал: «Как вы, Василий Андреевич, написали бы это слово?» (в смысле правописания, оно тогда еще не устоялось). «А как напишу, так и будет».
Есть еще такой поэт Козлов. Дело в том, что он делал эту штуку – «вертикаль». Я недавно прочел его. «Не бил барабан перед смутным полком» – это и есть то, чего хотел Крученых. Почти все его стихи – это переводы с английского («Вечерний звон»). Очень люблю восемнадцатый век, все люблю. Я отношу Батюшкова к восемнадцатому веку.
И.В. – Г.: Но это все формальная поэзия.
С.К.: Да, формальная, я очень люблю их читать, этот звук мне важен. Нелединского-Мелецкого, Княжнина – я на них отдыхаю. У них были удивительные достижения, причем Батюшков, когда сошел с ума, забыл, какие стихи он писал, а какие не он. Он брал чужие стихи и исправлял их. Он сумел так исправить Нелединского-Мелецкого – это то же самое: идет вертикаль, потому что там меняются рифмы и возможно все что угодно. Дело в том, что для того, чтобы иметь право зарифмовать одинаковые слова, нужно обладать очень сильной внутренней гармонией.
И.В. – Г.: Что значит «одинаковые слова»?
С.К.: Например, стол – стол.
Дай такое, чтоб умела любить и разлюбить.
Дай такое, чтоб хотела не одну тебя любить.
Попробуй зарифмовать «любить» и «любить» – только внутренняя гармония делает это возможным. Это делали ранние футуристы.
И.В. – Г.: А Тютчев и Анненский?
С.К.: Люблю некоторые стихи Анненского, особенно «То было на Валлен Коски»…
Тютчев – это интересно, но больше мне нравится Фет. У Тютчева мне не подходит внутренняя структура, вот расстояние между звуками у Фета мне подходит больше. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это мне близко как поэту. Фет мне подходит по звуковой гармонии.
И.В. – Г.: Прошел девятнадцатый век с его дворянской поэзией, потом символизм, которого ты не принимаешь.
С.К.: Очень интересный поэт Вячеслав Иванов с его устройством стиха и гармонией. Я, честно говоря, люблю только пару стихотворений Иванова, остальное для меня многословно, вяло, недостаточно.
Дорожный выпадет костыль,
А позади лишь прах и быль.
Но вообще я прошел символизм, а акмеизм Гумилева я люблю. Ничего особенного мне искать не приходится в его гармоническом устройстве, оно такое ровное и хорошо сделанное.
Больше всего мне нравится цикл «Возвращение Одиссея», и лучше всего заканчивается «Избиение женихов»:
Ну, собирайся со мною в дорогу,
Юноша светлый, мой сын Телемах,
Надо служить беспощадному богу,
Богу Тревоги на черных путях.
Он вообще слово «черный» использует много раз очень интересно. Одну строфу Гумилева я для себя исправил. Он пишет так:
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.
Я читаю по-другому, у Гумилева стерто и проходит по линии, надо, чтобы было более выпукло. У меня написано то же самое, но исправлены акценты и вариант интонации.
И.В. – Г.: А потом начинаются Ахматова и Мандельштам?
С.К.: Я прошел мимо Мандельштама. Не читаю я его.
И.В. – Г.: Почему?
С.К.: Ну, я же не ученый, не пишу статей, не преподаю в институте. Значит, Мандельштам писал для кого-то другого, не для меня. И Ахматова тоже. Гиппиус меня интересует гораздо больше.
И.В. – Г.: Почему? Потому что ты не ищешь классику и культуру, а какие-нибудь личные ходы?
С.К.: Меня совершенно не интересуют переживания, у меня у самого их достаточно, мне совершенно не нужно, чтобы мне кто-то свои переживания навязывал. Не надо, мне нужна форма.
И.В. – Г.: Что происходит в твоих последних стихах, простых и безумно музыкальных?
С.К.: Я уже не могу так написать. Как посторонний человек я горжусь, что такие стихи можно было написать, прости за похвальбу, но это абсолютно объективно.
И.В. – Г.: Там присутствует момент твоего первичного сдвига? Как в ранних стихах:
Я порой сижу на выставке один,
С древнерусские пишу стихи картин.
И в этих стихах, при всей их простоте, понятности, первичности, есть этот сдвиг. То, что осталось от старого Красовицкого, – это достижение сдвига.
С.К.: Так я тебе говорил, что я перевернул по вертикали все, что у меня было, и они иначе стали звучать, звуки расположились по-другому. Ну, а человек я тот же самый.
И.В. – Г.: Стась, тебя окружает флер таинственности, ты тайный человек, который в тайные времена был властителем умов, а потом исчез. Ты сейчас как бы вернулся в свет, начал появляться, выступать, реагировать. К тебе относятся как к воплотившейся легенде. За время твоего отсутствия литература очень изменилась, усложнилась, конструировалась, деконструировалась, стала недоступна простому чтению.
С.К.: Ну, в новых стихах я вредности не вижу, но какой-то «сумбур вместо музыки», как говорил товарищ Жданов, набор слов, я не могу понять, что с чем скреплено.
И.В. – Г.: Твои новые «другие» стихи мы первые напечатали в «Знаке времени», а потом в «Зеркале», и антология «Зеркала», вышедшая в НЛО, называется «Символ Мы» – и это цитата из твоего стихотворения. «Зеркало» – журнал современной литературы, но у него есть пристрастия, и одно из главных – это Второй русский авангард, который вернул русскую литературу к жизни после долгих лет советского подцензурного мрака и создал новую структуру русского культурного существования. И как ты, одна из центральных фигур этой ситуации, находишь себя в сегодняшнем литературном пространстве?
С.К.: Я скажу о «Зеркале» и «Символе Мы». Для меня и для Хромова это было очень важно. «Зеркало» вернуло нас в правильный контекст литературы. В «Зеркале» интересно все: и Илья Кабаков, и Гденич, и Гольдштейн, и интервью математика про Европу правильное. С очень многими мыслями из гробмановского теоретического «Левиафана» я согласен, стихи его музыкальны и мне нравятся, когда они без мата, – мата не люблю. Книга дневников Миши – это очень ценно, все правда, все так было. Единственный мемуарист нашего времени, других нету. Вот появилась эта книжечка о Лене Черткове, о Куклисе – это такие обрывки воспоминаний.
И.В. – Г.: Что ты можешь сказать о невероятной сложности, зашифрованности, нечитабельности современной литературы?
С.К.: Мне кажется, чтобы писать сейчас хорошую литературу, надо совершенно уйти от жизни, создать свой орден. Я имею в виду уйти в бытовом смысле – ничего особенно не читать, телевизор не смотреть, уйти в какое-нибудь замкнутое общество. Вот я занимаюсь скаутами, если бы у нас культивировалась такого вида замкнутость, тогда могло бы что-нибудь развернуться. Сейчас на человека идет обвал каких-то дурацких впечатлений, и в этом обвале, если он честный человек, он ничего не может написать или пишет какую-то гадость, понимая, что, если он напишет правильно, он никому не будет нужен и заметен. Это конъюнктура. Я уверен, что есть люди, которые пишут неплохо.