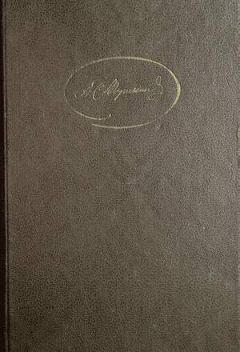С. Фомичев - Пушкинская перспектива
…вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях, недавно я ходила в Зачатьевский монастырь – вы представить себе не можете, до чего чудно поют там стихиры! Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо! Везде лужи, воздух уже мягкий, весенний, на душе как-то нежно, грустно и все время это чувство родины, ее старины…[161]
Рассказ Бунина подробно проанализирован Л. К. Долгополовым как итоговое произведение писателя. «Оказавшись, – выявляет исследователь глубинную концепцию произведения, – между двух огней – Западом и Востоком, в точке пересечения противостоящих исторических тенденций и культурных укладов, Россия сохранила вместе с тем в глубине своей истории специфические мечты национальной жизни, непередаваемая прелесть которой для Бунина сосредоточена в летописях, с одной стороны, и в религиозной обрядовости – с другой. Стихийная страстность, хаотичность (Восток) и классическая ясность, гармония (Запад) синтезируются в патриархальной глубине национально-русского самосознания, согласно Бунину, в некий сложный моральный кодекс, в котором главенствующая роль отводится сдержанности, многозначительности – не явной, не бросающейся в глаза, а скрытой, затаенной, хотя по-своему глубоко и основательно осмысленной».[162]
Думается все же, что рассказ Бунина не только об этом. Следует специально оговорить существенно неточное толкование исследователем двух деталей рассказа. В последний вечер своей светской жизни героиня вдруг решает отыскать на Ордынке дом Грибоедова. Л. К. Долгополов трактует это лишь как отражение роковых восточных (персидских) черт героини (Грибоедов, как известно, погиб в Персии). Но ведь Бунин наверняка знал сохраненное современником следующее свидетельство о драматурге:
Он находил особое наслаждение в посещениях храмов божьих. Кроме христианского долга, он привлекаем был туда особенным чувством патриотизма. «Любезный друг! – говорил он мне, – только в храмах божьих собираются русские люди; думают и молятся по-русски. В русской церкви я в отечестве, в России! Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Димитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новегороде, Москве; что то же пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы русские только в церкви, – а я хочу быть русским!»[163]
О том же думает, как мы знаем, и героиня. Но это стремление все же не поглощает ее до конца, как бы ей этого ни хотелось. Вероятно, мысль о Грибоедове связана в ее представлении и с известным пушкинским определением: «Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств» (VIII, 461). В таких же тисках судьбы, по сути дела, задыхается и сама героиня.
Еще важней другая деталь сюжета. В тот же вечер Прощеного воскресенья – в трактире, где лохматые извозчики и старозаветные купцы провожают разгульную масленицу, героиня «с тихим светом в глазах» признается:
– Я русское летописное, русские сказания так люблю,
что до сих пор перечитываю, что особенно нравится, пока
наизусть не заучу. «Был в русской земле город, названием
Муром, в нем самодержствовал благоверный князь, име
нем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на
блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом,
зело прекрасном…»[164]
Я шутя сделал страшные глаза:
– Ой, какой ужас!
Она, не слушая, продолжала:
– Так испытывал ее Бог. «Когда ж пришло время ее
благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня пре
ставиться им в один день. И сговорились быть погребен
ными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне
два гробных ложа. И облеклись тагожде единовременно,
в монашеское одеяние».[165]
Упомянув о цитировании героиней начального и финального фрагментов «Повести о Петре и Февронии» и не обратившись к тексту памятника, исследователь комментирует:
Однако выдержала женщина посланное ей испытание, не поддалась соблазну и была вознаграждена за свою стойкость.[166]
Ясно же, что переносить такое толкование на образ героини в корне неверно. Вспоминая начало и концовку старорусской повести, она открывает двойственность своей натуры (сочетание разгула и благости, – в сущности, языческого и христианского начал, того двоеверия, которым пронизана древнерусская повесть). И потому она отдается герою на исходе масленицы, чтобы на следующий день, в Чистый понедельник, уйти в обитель. Здесь, вероятно, важна для писателя Нового времени перекличка с хронотопом старой повести: ее герои почили 25 июня, сразу же после самого языческого по народной обрядности – купальского – праздника.
Несмотря на мимолетность упоминания древнерусской повести в рассказе Бунина (впрочем, и весь рассказ очень краток, тем насыщенней предстает каждая его деталь), оно многое определяет в художественной концепции писателя. Как нам представляется, писатель вовсе не подводит здесь итоги. Недаром героиня в нем остается в сущности на перепутье, сделав лишь первый шаг на пути своего «очищения». Ведь уходит она не в «самый глухой монастырь, вологодский, вятский, где простой народ», как мечталось, а в привилегированную московскую Марфо-Мариинскую обитель (куда простой народ и не пускали), находящуюся под покровительством великой княгини, – становится не монашкой, а членом религиозной общины.[167] И взгляд ее темных глаз при случайной – спустя два года – встрече с героем можно ли истолковать как прощание с суетной земной жизнью? Скорее, это по-прежнему взыскующий взгляд. Ощущая в 1944 году скорое окончание Второй мировой войны, Бунин вспоминает Первую – после которой все перевернулось, но, оказывается, так и не уложилось. И Вологда, Вятка (впрочем, уже Киров) остались там – в России…
Отметим важный штрих в характеристике бунинской героини: во взаимоотношениях с героем и она лидирует, но, в отличие от Февронии, оставляет его, избирая лишь для себя путь исканий.
На этом можно было бы и закончить разговор о преломлении мотивов «Повести о Петре и Февронии» в новой русской литературе: других произведений, восходящих к ней, не обнаружено. Но недаром Д. С. Лихачев сравнил построение повести с композицией русской иконы, в клеймах которой подчас раскрывались основные события жизни изображенного лица.[168] Выше уже приводились примеры самостоятельного развития писателями Нового времени ряда мотивов, совпадающих с сюжетными узлами повести, независимых от нее, восходящих к сходной народно-поэтической топике. Демонстрацию таковых можно значительно расширить.
Но главное предвестие новой русской литературы в средневековой повести нужно увидеть в ином, куда более принципиально важном. Впервые в древнерусской литературе – опираясь на народно-поэтические легенды, верования – Ермолай-Еразм в отношениях мужчины и женщины моральное превосходство увидел в героине, выявив ее хранительную роль в жизни. Возвращаясь к сравнению повести с романом о Тристане и Изольде, нельзя не заметить их контраст в этом отношении при всем совпадении многих мотивов и сюжетных ситуаций. Говоря о европейской легенде, А. Д. Михайлов задает вопрос: кто в ней главный герой? – и справедливо утверждает:
Ответ, казалось бы, может быть только один: юноша из Леонуа и ирландская принцесса. Но поэты XII в. полагали иначе, недаром большинство из них не сговариваясь назвали свои книги одинаково: «Роман о Тристане». Это выдвижение в основные протагонисты лишь одного героя не умаляет ни обаяния образа Изольды, ни его значительности. Нет здесь и отражения якобы рабского положения женщины, типичного, по мнению некоторых исследователей, для Средневековья. Это не невнимание к Изольде, это признак жанра, это концепция.[169]
С точностью до наоборот то же самое следует сказать о концепции повести Ермолая-Еразма, главной героиней которой стала Феврония. Само первое «клеймо» (первый эпизод «Повести…»), где пока героиня не появляется, в контексте всего произведения воспринимается как контроверс, необходимый для дальнейшего повествования о подвиге женского служения, призванного сохранить незыблемую гармонию мира – не борьбой, а любовью.
И это поистине стало откровением новой русской литературы ее Золотого и Серебряного веков. Сюжетные переклички произведений в этом отношении не столь важны, как их пафос. Прослеживая образ «умной женщины» в русской народной сказке (а вслед за ней и в русской литературе), В. И. Мильдон замечает:
Мужская психология в изображении сказки часто напоминает (…) психологию ребенка, которого надо направлять, за которым надо следить, иначе он наделает бед, преимущественно самому себе. Действительно, отношения женщины и мужчины в сказке нередко походят на отношения матери и сына, кем бы на самом деле она ни была ему. Она выручает его из трудных положений, он подчиняется, у него не возникает желания сделать по-своему, хотя бы из чувства противоречия. Если он и поступает по-своему, то нечаянно, позабыв женские постановления и запреты, да и то потому, что в этот момент не было рядом женщины.[170]