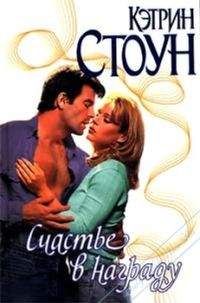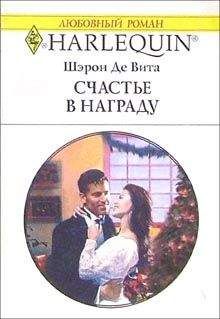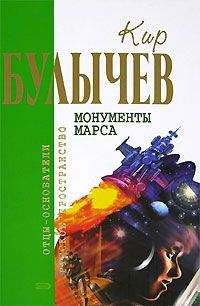Дмитрий Урнов - Кони в океане
Но резвый прием сказался. Сил у Тайфуна хватило на полтора круга, на половину дистанции. Последнее, что сумел сделать Гриша — это, отставая, взять в поле и пропустить по бровке кратчайшим путем Эх-Откровенного-Разговора. Катомский остался один. Пошли последний круг.
«Однажды в Англии, на берегу Ирландского моря, я заметил у своей лошади в седелке что-то интересное…» Вот так примерно вел себя в эту минуту Катомский, занимаясь каким-то совершенно своим особым делом, разглядывая что-то у Родиона на спине. А между тем последний поворот. Теперь, было ясно, кинется Ровер, фаворит.
Ровер, крупный гнедой мерин, и правда тотчас оказался первым, будто вообще бежал он один, а все прочие стояли на месте. Зубы скрипнули возле меня, я покосился: игрок, зажавший в одной руке букмекерский билет, а в другой секундомер, смотрел за стрелкой. Она, кажется, не поспевала за лошадьми. Резвость!
— Ровер, как вихрь, — чеканил диктор, убыстряя речь вместе с приближением лошадей к финишу, вырывается на первое место. Последняя прямая. Впереди Ровер! Палла да пытается захватить его. Но Ровер складывает бег как он хочет. Ровер финиширует!
Крик в публике не был отчаянным: выигрывал фаворит. На устах было: «Ровер! Ровер!» Принялись уже хлопать.
Тут Катомский сделал свой посыл.
Когда нужно описать рывок на финише, Толстой говорит о лошади «как птица». Современный писатель прибегнет в том же случае, положим, к самолету и, возможно, вспомнит ракету.
Нарастание резвости по дистанции Толстой передает спокойно: свистнул кнут, шире ход, копыта бьют в железо передка. Толстой, как если бы в самом деле он «был лошадью», знает изнутри, как это — «все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег под передок, я еду». Соединяя профессионализм спортивный с писательским, следит он и за скачкой, отмечая всего лишь, когда у лошади потемнело плечо от пота и как от посыла она прижала уши. Он знает, он видит, ему хватает слов и не требуется «как». Однако перед последним барьером, на прямой, успевая тем же точным внутренним постижением ухватить предельную струну скачки, зная: если не по скаковой дорожке, то по охотничьим погоням, как лошадь на полном галопе приникает к земле, зная в особенности, что тогда кажется, будто неподвижно висишь вместе с лошадью в воздухе — это пейс![15] — зная и успевая до этой минуты, Толстой вдруг перед последним барьером мешкает и, уже не чувствуя последнего броска ни за лошадь, ни за ездока, говорит «как птица».
Позиция наблюдателя: «Он видел их резвость, ставил на королевские цвета и кричал вместе с толпой» (Джойс).
«…Начался заезд, они привстали с мест и волновались, и горячились, как все люди, когда играют и видят, что лошадь, на которую они поставили, плетется в хвосте, а они надеются, что она вдруг вырвется вперед, чего никогда не случается, потому что в ней нет прежнего задора» (Шервуд Андерсон).
И — Хемингуэй: «Стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, как все тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет, и вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота».
Спустив ногу, выставив крючковый хлыст, маэстро рывком захватил Ровера, которого наездник-англичанин бил наотмашь, будто кнутом, а не хлыстом, и надо хотя бы немного держать в руках вожжи, чтобы представить, сколько воли, умения и выдержки должно хватить, чтобы сделать с Родионом то, что сделал Катомский, заставив жеребца высунуть голову к столбу на нос впереди несущегося Ровера.
«Все, все возьмите. Пусть молодость ушла. Старый и больной. Иронизируйте, гандикапируйте, берите сколько угодно у меня форы. Мне по дистанции не нужно ничего. Но эти несколько метров до последнего столба — мои. Отдай!» — это говорил в ту минуту вид мастера.
— В мертвом гите! В мертвом гите! — пронесся по трибунам стон.
Значит, голова в голову, рядом. И только после совещания судьи решили, что все-таки полголовы за нами, чуть больше носа.
Катомский въехал победителем в паддок и стянул с головы красный картуз. Ипподром встал.
Призовой день клонился к закату. Воздух остывал от страстей. Публика рассеивалась. Разъезжались фургоны с лошадьми. Конюх вел через круг захромавшую лошадь. Эх-Откровенный-Разговор, уже после бега освежившийся, хрустел сеном. Прислушиваясь, как Родион ест, Катомский убирал в наследственный сундук таинственные мази, бутылочки и прочие приспособления. Становилось все тише. К нам никто не подходил. Обычно — толпились. Разговоры. Шутки. Тащат кто-куда. И вдруг — выиграли, и никого. Причину мы знали: после победы цены на наших лошадей поднялись и мы сделались для многих, так сказать, не интересны. Барышник Дик Дайс посмотрел на меня как в пространство.
— Ну, что? — заговорил тут Катомский, глядя, как мы с Гришей поникли. — Где же ваши друзья?
Он иронически выговорил «друзья» и смотрел на нас взглядом усталой опытности.
— Где, — все также продолжал Всеволод Александрович, — Дик Дайс? Джек? Джон?
С каждым именем мы все ниже опускали головы.
— Где боксер?
— Боксер уехал в Маслобоево! — попробовал отбиться Гриша.
«Маслобоевом» называлось переиначенное Гришей Масселборо, шотландский городок, где как раз не было известных ограничений.
— Хорошо, боксер в Маслобоеве, — не отступал Катомский, — а где же Грей?
То был удар. Мы всегда знали, что большинство крутится возле нас из интереса. Но Грей Рэнсом был случай особый.
Однажды на ипподроме проминали очень резвого рысака. За работой наблюдал высокий стройный парень моих лет.
— Что за лошадь? — спросили мы.
— Принц.
— Чья?
— Моя.
Истрепанный немилосердной ездой «ягуар» и лошадь по кличке «Принц». Грей Рэнсом удивительно привязался к нам. Он готов был пропадать с нами целые дни.
— Где же ваш Грей?
И маэстро удалился на покой.
Установилось ночное небо. Зажглись огни Королевского Лидо. Супер сиял своими окнами. В той стороне, где Ливерпуль, поднималось темное зарево. Всюду двигалась своим чередом чужая жизнь, оставляя нас с краю. Мы собрались в кафе Королевского Лидо есть грибы. Это сделалось у нас правилом, чтобы сохранить, как обычно бывает за рубежом, защитный кокон родного обихода: уезжает человек за тридевять земель и сразу же спрашивает черного хлеба.
— О’кэй! — раздалось у нас за спиной.
Это был Грей.
И била музыка по мере того, как все выше и выше ввинчивались мы в ночные горы. Не унималась «Кэролайн»:
Был
молод
я,
хоть и теперь еще я —
мо-о-олод…
В горной таверне, куда мы приехали, на стенах развешаны были скаковые картины, и мистер Триллинг возвышался над баром, как капитан. С порога слышалось, что говорят о лошадях, говорят о лошадях, говорят о лошадях.
Не многие ожидали, что мы будем первыми, поэтому букмекер был в барышах, он нам кивнул словно соучастникам. А кто потерпел из-за нас убытки, имел, конечно, мотивы смотреть иначе.
Один взгляд оказался особенно красноречив.
Через какую-нибудь минуту между Греем и этим длиннолицым шел диалог шекспировский: «Это вы на мой счет закусили губу, сэр?» («Ромео и Джульетта», д. 1, сц. 1).
Грей шепнул:
— Англичан бить будем, — он был уэльсец.
Я же думал не «что сейчас будет?», а щемило меня, «что потом будет!». На шелестящем наречии своих предков, из которого знающий только английский ни слова не поймет, Грей заговорил кое с кем из сидевших у бара и вокруг букмекера. Обнаружились, кроме того, ирландцы, они-то понимали уэльсцев. Появился наш босс с Арабеллой и хотел было все прекратить. Грей сказал ему демонстративно:
— Тут из Лондона хотят с нас получить.
Босс, он был тоже уэльсец, просто зашипел в ответ:
— Получат! — и потянул с плеч пиджак.
Кто-то прошептал: «Жаль, боксер в Маслобоеве». Боксер был шотландец, и он, когда при англичанах обсуждали беговые тайны, переходил с местными игроками на тот же шелестящий язык.
Но англичанкой оказалась Арабелла! «Хотите быть судьей на конкурсе красавиц?» — однажды предложил мне наш босс. Кто скажет на это «нет»? Только с условием, — босс добавил, — моя Арабелла должна быть победительницей! Что ж, присуждая ей приз «королевы», пришлось бы кривить душой (вкусы тут специфические), однако она была бесспорной победительницей при нашем Англси.[16]
— Мужчины, — произнесла она, подходя к длиннолицему и кладя ему руку на плечо, — не заставляйте меня краснеть за мою родину!
Длиннолицый выступил вперед и начал, уже играя, засучивать рукава. Вековая выучка оказалась в соединении иронии и серьезности, самоуничижения и достоинства. Все было понято и прощено. Как фейерверк к перемирию, впустили собак: вбежало два огромных и образцово черных пса, а за ними немыслимое количество щенков. А затем в совершенной тишине повар внес на перчатке охотничьего сокола.