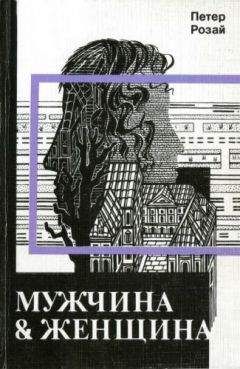Наталия Лебина - Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР - оттепель
ГЛАВА 4
«Человек родился»: репродуктивность, аборт, контрацепция
Представления о «материнстве» и «отцовстве» связаны не только с функцией деторождения, но и с особенностями репродуктивного поведения, принципы которого во многом формируются с помощью дисциплинирующих инициатив власти. После событий осени 1917 года большевики сделали немало для охраны здоровья женщины-матери. Государственная забота в данном случае выразилась во введении оплачиваемого отпуска, предоставляемого до и после родов, в создании специальной государственной структуры – Отдела охраны материнства и детства при Народном комиссариате социального обеспечения, в организации сети родильных домов и детских учреждений и во многом другом (подробнее см.: Дробижев 1967; Градскова 2007).
Равноправие полов составляло предмет особой гордости первого в мире социалистического государства. С первых дней своего существования оно четко сформулировало позиции по отношению к женщинам, признав их потенциальными строителями нового общества и в то же время «отсталым элементом», нуждающимся в постоянной заботе и воспитании (Здравомыслова, Темкина 2003a: 304). Их стали вовлекать в процессы производства, в политическую жизнь, в решение вопросов семейного насилия на государственном уровне. Эти тенденции вылились в целый ряд нормативных суждений власти, в частности законодательных инициатив в сфере легализации абортов. В результате стали меняться коды репродуктивного поведения.
Еще до прихода к власти большевики выдвигали идею отмены всех законов, преследующих аборты, вторя тем самым буржуазно-демократическим представлениям о свободе выбора человеком стиля его репродуктивного поведения. Правда, у российских социал-демократов вопрос о запрете абортов обрел к тому же и антиклерикальный характер. Отделив церковь от государства и ликвидировав церковный брак, советское государство создало идеологическую основу для легализации прерывания беременности. В ноябре 1920 года совместным постановлением наркоматов юстиции и здравоохранения в России были разрешены аборты. Советская республика стала первой в мире страной, узаконившей искусственный выкидыш. Желающим предоставлялась возможность сделать бесплатную операцию по прерыванию беременности в специальном медицинском учреждении, независимо от того, составляло дальнейшее вынашивание плода угрозу здоровью женщины или нет. До середины 1920-х годов создавались необходимые медицинские условия свободы абортов, которые тем не менее в официальном властном дискурсе не рассматривались как медико-юридическая и морально-нравственная норма. В 1926 году были запрещены аборты для впервые забеременевших, а также делавших эту операцию менее полугода назад. Брачно-семейный кодекс 1926 года утвердил право женщины на искусственное прерывание беременности по собственному желанию. Все, и власти в том числе, понимали, что уровень рождаемости не связан с запретом на аборты, несмотря на вред, который они несли женскому организму. В советской действительности 1920-х годов появилась возможность реализации женской сексуальности не только в процессе зачатия ребенка. Сексуальность отделялась от репродуктивности, что делало функцию материнства результатом свободного выбора.
Проблема «власть и маскулинность», имеющая непосредственное отношение к статусу отцовства, имела более сложный исторический контекст (подробнее см.: Кон 2001; Коннелл 2001; Утехин 2001; Мещеркина 2002; Валенцова 2004; Гилмор 2005; Чернова 2007). На чертах новой мужской идентичности сказывались все нормативные и нормализующие инициативы, направленные на регулирование женского вопроса. Одновременно уже в 1920-х годах власть предпринимала и целенаправленные шаги по созданию «настоящего мужчины коммунистического будущего». Не посягая на идеологию маскулинности, лежащую в основе традиционных представлений о роли мужчины в обществе, большевики тем не менее во многом деструктировали модель отцовства. Первые советские кодексы о семье и браке продекларировали равные обязанности обоих полов в отношении ребенка, при этом государство в определенной степени монополизировало функцию отцовской власти (подробнее см.: Айвазова 1998).
Это был кратчайший путь разрушения патриархальных репродуктивных ценностей. Одновременно для представителей сильного пола в качестве образца предлагался идеал защитника не семейных интересов, а устоев коммунистического государства. Критике подвергалась христианская заповедь «Чти отца своего». Известный психоаналитик А.Б. Залкинд утверждал: «Пролетариат рекомендует почитать лишь того отца, который стоит на классово пролетарской точке зрения… коллективизированного, классово сознательного и революционно-смелого отца. Других же отцов надо перевоспитывать, а если они не перевоспитываются, дети этически вправе покинуть таких отцов, так как интересы революционного класса выше благ отца» (Залкинд 1925: 54–55). Форсированное строительство социализма, действительно, требовало особой мобильности мужчин, которых, по мнению социолога Ж.В. Черновой, государство рассматривало «как своего рода „номадический субъект“ – как трудовую и/или боевую единицу, не обремененную частной собственностью и ответственностью за семью» (Чернова 2007: 142).
Патриархальная модель отцовства разрушалась и под влиянием индифферентной правовой позиции советской власти в отношении гомосексуализма. До событий 1917 года эта форма полового влечения рассматривалась в России как аномальное явление повседневной жизни, подлежащее уголовному преследованию. В первых правовых документах советского государства отсутствовали положения, касающиеся регламентации интимных отношений. Современники писали, что «этот шаг советского правительства придал колоссальный импульс сексуально-политическому движению Западной Европы и Америки» (Райх 1997: 214). Ведь в большинстве западных стран в то время гомосексуализм рассматривался как уголовное преступление. В целом 1920-е годы можно охарактеризовать как время формирования революционной маскулинности на эгалитаристской основе взаимоотношения полов, что во многом дискредитировало привычную функцию отцовства.
Но к началу 1930-х годов руководство страны явно переориентировалось на традиционалистский идеал так называемой «большой семьи», ассоциируемой с многодетностью и одновременно с процессом гипертрофированной мобилизации мужественности. По определению социолога И.Н. Тартаковской, под воздействием «гипермаскулинного милитаризованного государства» сформировался тип советского мужчины, стрежнем которого было «безоговорочное и самоотверженное участие в реализации любых государственных проектов» (цит. по: Российский гендерный порядок 2007: 142). В данной ситуации особое значение приобретала система государственного регулирования мужской сексуальности. С изменением общей парадигмы социально-бытового развития страны модифицировалась и законодательная база, касающаяся вопросов мужской приватности. В марте 1934 года Президиум ЦИК СССР принял постановление, вводящее уголовную ответственность за «мужеложество, т.е. противоестественное половое сношение мужчины с мужчиной». Это преступление каралось теперь лишением свободы на срок от трех до пяти лет в случае «добровольного мужеложества» и на срок от пяти до восьми лет – в случае «соединенного с насилием» (Уголовный кодекс РСФСР 1946: 200). Гонения на гомосексуалистов сразу вышли из области личной жизни и приобрели политический характер. Уголовное преследование мужской любви стало звеном в цепи сталинского «большого террора», официальное начало которому было положено непосредственно после убийства 1 декабря 1934 года С.М. Кирова.
Ограничение и мужской и женской сексуальности было связано с постановлением от 27 июня 1936 года о запрете на аборты, в частности, усилившим уголовное наказание за неуплату алиментов на содержание ребенка. В целом, по мнению американской исследовательницы Ш. Фитцпартик, гендерная политика довоенного сталинизма имела «антимужскую направленность». «Мужчины… – отмечает она, – изображались эгоистичными, безответственными, склонными тиранить и бросать жен и детей» (Фитцпартик 2001: 173). Все это понижало статус отцов, внося явную асимметрию не только в модель советского родительства, но и в структуру гендерных отношений. Продолжением подобной политики явилось введение в ноябре 1941 года налога на бездетность.
Формирующаяся социальная система тоталитарного типа стремилась вернуться к патриархальной модели материнства, выбрав для этого меры запретительного характера. С 1930 года операция по прерыванию беременности стала платной. При этом, утверждая, что аборт наносит женскому организму непоправимый ущерб, государственные структуры ежегодно повышали цены. Государство забирало «абортные деньги» в свой бюджет. В первом квартале 1935 года в Ленинграде, например, «доход от производства абортов» (так и написано в источнике) составил 3 615 444 рубля! (ЦГА СПб 7884, 2: 27, 28). Изменение принципов социальной политики заставило многих женщин прибегать к испытанным средствам самоабортов и помощи частных врачей. В секретной записке заместителя заведующего городским здравотделом в президиум Ленинградского совета уже в мае 1935 года отмечался «рост неполных абортов (на 75 %), вызванных вне больничных условий преступными профессионалами» (там же: 11).