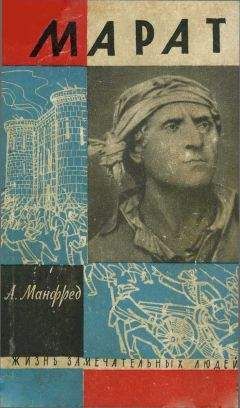Владимир Жуков - "Север" выходит на связь
Ливенцов уже успел шепнуть на ухо Кабалкиной, чтобы шла на партком, да все стоит, не уходит. Так приятно видеть, как оживляются отекшие от голода, суровые, мертвенно-бледные лица.
В военпредовском закутке тоже разговор. Военные товарищи тут, Михалин, Апеллесов, Витковский. Тамара Ольховская, диспетчер на сборке, что-то им рассказывает. И плачет. С фронта, что ли, недобрую весть получила? Два ее брата, слесари завода, воюют. Ольховские — целая рабочая династия.
Тамара всегда как огонь, а тут еле говорит, платок в руке мокрый. Просто непохоже на нее. Не дай бог, если цех вовремя не подаст нужные детали, начальник сборки тут же поставщиков стращает: «Смотрите, я на вас Тамару напущу!» Она и к директору, и в партком постучится, не сробеет, лишь в военпредовской тише воды, ниже травы. Тут если найдут порок в «Северке», краской заливается, будто лично виновата, будто ей, диспетчеру, за весь завод положено перед Красной Армией отвечать.
Ливенцов прислушался, понял, что речь идет о Захарчине, механике по приспособлениям, сутулом старичке, таком уважаемом, что все его звали дедушкой.
— Миленький, — так Тамара говорит о нем и всхлипывает. — Сыновья у него все на фронте, жена недели две как скончалась. С того дня он и домой перестал ходить. Вы же видели: день и ночь у верстака. Неизвестно, когда и отдыхал. Все мудрует, что-то придумывает. И такой был безотказный! Говорит мне: «Схожу домой, Тамара. Долго не был». А на другой день не явился. Сразу догадались: заболел. Товарищ Витковский послал меня проведать. Пришла. Лежит в постели, тяжело дышит, лицо как мел. Увидел меня и шепотом ругает: «Зачем пришла, силы тратишь. Мне все равно помирать». Ну, я в магазин сходила, хлеба ему на карточку взяла. Убрала в комнате. Чай подогрела, заставила горяченького выпить. Сегодня снова к нему. Открыла дверь, а в комнате тихо-тихо. Подошла к кровати. Может, спит, думаю. Но нет, вижу, не дышит. Глаза открыты, остекленевшие. Нашла саночки в прихожей и на кладбище отвезла…
Тамара умолкла. Молчали и все, кто слушал. «Не новость такое, — подумал Ливенцов. — Сколько уже умерло. Страшно сказать, а и привыкнуть бы нужно, да вот не привыкают. Скорбь на лицах, глаза вытирают… Скорбь по каждому умершему, как по близкому человеку. Всех она породнила — блокада».
В десять часов в парткоме захлопала дверь. Собирались члены парткома, приглашенные. Усаживались тесно на деревянных лавках, шумели.
Последними пришли Апеллесов и Витковский. Спорили на ходу — каким должен быть «Север-бис», усовершенствованный. Попытались и Ливенцова втянуть в разговор, но он не поддался, поднял руку, прося тишины.
— Сегодня мы, — начал секретарь, — похоронили одного из старейших наших рабочих — Михаила Ивановича Захарчика. Прошу встать, почтить его светлую память минутой молчания.
Опять загремели лавки, когда садились. Но шума, какой бывает, когда собираются, не было. Ливенцов объявил повестку дня.
Запыхавшись, вошел инструктор горкома партии Сочилин — спешил, видно, чтобы не опоздать. Присел с краю, и уж лица опять все к Ливенцову, слушают. А тот мерно, негромким голосом начал:
— Если поискать сравнений, то мы уже давно как бы плывем с вами в океане во время шторма, даже урагана. И теперь на нас катится самая грозная волна — девятый вал. Топливо на исходе. О положении на лесозаготовках сведений нет. Через час я туда отправлюсь. Так вот, решено пока что разобрать ветхие деревянные постройки на втором дворе. Есть предложение объявить аврал…
Ливенцов не успел договорить. Дрогнули стены. В раскатистый гул разрыва вплелись звенящие звуки бьющегося стекла. Штукатурной пылью густо заволокло комнату.
— Кого ранило? — кричал Ливенцов. — Кого ранило? Обошлось. Раму окна целиком высадило. Поцарапанные лица и руки — не в счет.
Прибежал начальник охраны, объяснил:
— Снаряд пробил стену заводского корпуса. Людей там не было, жертв нет.
Отряхивались, рассаживались по местам. Ливенцов поставил предложение об аврале на голосование.
— Так. Единогласно. А теперь прошу всех во второй двор. Ломы, топоры и пилы можно получить в проходной.
К коммунистам присоединилась большая группа комсомольцев. Начали с чердака — содрали толевую кровлю, сбросили вниз стропила.
Через полчаса Ливенцов обратился к работавшим с просьбой отпустить его и Сочилина: надо обязательно побывать на лесозаготовительном участке.
* * *Ни шпал, ни рельсов не было видно под сугробами. И колес у вагонов. Даже на состав не похоже. Когда-то, кажется, целую вечность назад, на этих путях застрял восьмой эшелон. Отсюда, с железнодорожной станции, под обстрелом вытаскивали станки. Но немало еще оборудования осталось на платформах, заметенных снегом.
— Весной обязательно заберем, — сказал Ливенцов. — Ничего не оставим.
Они поспешили к единственному расчищенному пути. Подошла летучка-дрезина с двумя платформами. Сели на какие-то ящики. Поехали.
Ветер бьет в лицо, промораживает, зато — движение. Заснеженные поляны, заколоченные дачи в лесу уплывают назад. На поворотах сильно бросает, только держись. А руки закоченели, а сил, кажется, уж и совсем не осталось, не удержаться.
Соскочили на полустанке, натоптанной стежкой двинулись через поле, к темневшему вдали лесу.
Снег на пригорках выдуло, чернели замерзшие глыбастые борозды.
— Ты смотри! — Ливенцов присел. — Карто-о-шка…
Встал, прошел вперед, вернулся, потом двинулся в сторону. Несколько раз нагибался. На его ладони лежали, свободно умещаясь, три маленьких мерзлых клубня.
— Ну и остроглазый, — сказал Сочилин. — Только на что они, не разгрызть.
— На огне оттают. Людей надо сюда послать, может, что и соберут.
— Не соберут. Чего тут соберешь! Камень, а не земля… Теперь дрова самое главное.
— Про дрова сам знаю, товарищ инструктор. — Официальное обращение означало, что Ливенцов сердится. — Можешь не объяснять. Знаешь сколько вчера людей на заводе умерло? Хоронить не успеваем.
— Знаю, знаю, — вздохнул Сочилин. — Чего ты вспылил?
Некоторое время они шли молча. Снег морозно скрипел под ногами, словно гул прибоя, доносился из лесу шум деревьев под ветром — тревожный, сердитый.
— Слушай, если бы тебя в армию сейчас направить? — первым сказал Сочилин. — Как бы ты к этому отнесся?
— А что? — встрепенулся Ливенцов. — Есть такое намерение? В горкоме?
— Да нет, просто так пришло на ум.
— А-а, настроение мое выясняешь. Давай, давай, выясняй.
Дружески-задорный тон разговора был им привычен, часто так говорили, спорили по делу.
— А все же?
— Летом со всей душой пошел бы, а сейчас сам не стал бы проситься. Не смог бы при таком положении оставить заводской корабль.
— Имеешь в виду девятый вал?
— Запомнил? Да, девятый вал. Только из-за него…
Они долго плутали по лесу, пока нашли своих. Странно было встретить невдалеке от громыхающего фронта гражданский лагерь с наспех вырытыми землянками, с дымками, плывущими вверх, под высокие кроны деревьев.
Романченко, ответственный перед дирекцией и парткомом за лесозаготовку, виновато выслушал укоры Ливенцова.
— Знаю, сам себя терзаю, Иван Николаевич. Трудно было землянки выкопать. Надо же где-то жить. Намаялись. Теперь приступили. Валим. Пилить надо побольше. Да некоторые совсем ослабли.
— Ладно, — сказал Сочилин. — Дело прошлое. Пошли лучше к людям.
На делянке работало несколько человек, больше сидело на стволах поваленных деревьев. Лица безразличные, сонные.
— Здравствуйте! — погромче выкрикнул Ливенцов. — Привез вам привет с завода. Очень там надеются на вас.
— Надеются, — зло откликнулась какая-то женщина. — Сами бы попробовали!
— Вот-вот, — поддержала другая. — На морозе да в голоде!
Ливенцов промолчал. Взгляд его упал на двухручную пилу, брошенную на снег. Наклонился, поднял. Сказал Сочилину:
— А ну-ка, берись!..
Пила была довольно острая. И начали споро, даже с ожесточением.
Вжик… Вжик… Сталь быстро углублялась в кругляк, опилки разлетались в стороны, издавая свежий спиртовой запах.
Ливенцов обрадовался, что не пропала сноровка: в 1920 году работал в Курском депо помощником паровозного машиниста, тогда тоже не было угля, приходилось останавливать локомотив в пути, пилить в лесу дрова для топки. И Сочилин ничего, ладно работает.
Вжик, вжик…
Прошел час, другой. Ни минуты на отдых. Не оттого ли рядом зазвенели другие пилы? Никто уже не сидит на бревнах, даже веселье в голосах слышалось. Тогда уже сам Ливенцов потребовал перерыва — для всех.
Собрал людей в кружок, стал рассказывать о положении на заводе, о последних сводках Совинформбюро.
Совсем уж отошли пилыцицы. Требуют:
— С нами оставайтесь, товарищ Ливенцов! За три дня весь лес сведем.