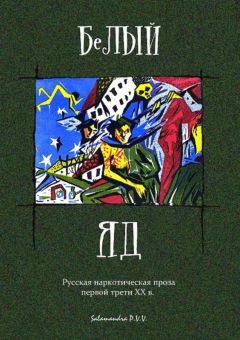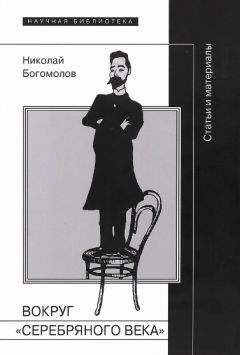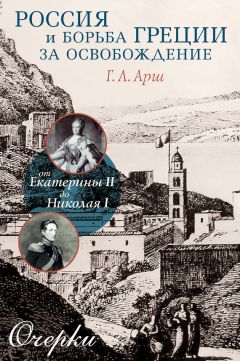Николай Богомолов - Русская литература первой трети XX века
Если Ахматова и Мандельштам лишь слегка подышали воздухом символизма, то для Гумилева он был привычен и долгое время казался единственно возможной средой обитания. На середине отведенной ему жизненной дороги пришлось сменить — и очень решительно сменить — сами принципы поэтического видения. Естественно, что такой перелом не прошел безболезненно, и первые опыты в новой поэтике не могли обладать естественной целостностью, какой обладали высшие достижения Гумилева-символиста. Для поклонников «Озера Чад» и «Капитанов» должны были казаться в высшей степени непривычными «Мужик», «Рабочий», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай». Но для читателя непредвзятого внутренней проблемой является освоение и того, и другого гумилевского мира, предстающего перед ним в различных аспектах.
Наиболее простые задачи ставил себе Гумилев в стихотворениях «Колчана», первого истинно акмеистического своего сборника. Он распадается на несколько отчетливо вычленяемых частей, которые даны в виде не концентрированном, а разбросанном по книге. Среди них — «итальянские стихи», явно написанные по следам блоковских «Стихов об Италии» и часто с ними спорящие; стихи военные, навеянные, конечно, собственным опытом, но далеко к нему не сводящиеся; сравнительно небольшие циклы стихотворений о России и об искусстве. Взгляду опытных читателей было уже и тогда очевидно, что в значительной своей части все они представляют собою попытки уйти от традиционного для прежнего Гумилева экзотизма (характерно, что в сборнике всего лишь одно — если не считать отрывка из поэмы «Мик» стихотворение связано с Африкой, да и то оно ни в коей степени не походит на прежние описания) и приблизиться к тому идеалу акмеизма, который он сам в программной статье «Наследие символизма и акмеизм» обозначил как следование «высокому напряжению той или иной его стихии». Среди акмеистических добродетелей он называет исследование внутреннего мира человека (что символизирует имя Шекспира), изображение тела и его радостей, «мудрой физиологичности» (Рабле), проживание жизни, нимало не сомневающейся в самой себе (Франсуа Вийон) и, наконец! безупречные формы для своей поэзии (Т. Готье).
В соответствии с этими акмеистическими доблестями он строит и свою новую поэзию, стараясь придать ей сугубую вещность, пластическую изобразительность, концентрированную точность слова, близость к земным переживаниям во всем их разнообразии. Кажется, что он совершенно забыл о мистических увлечениях своей молодости, тем более, что и в манифесте решительно произнес приговор символизму: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. <...> Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма»[116]. Звучит как решительное размежевание со своими же собственными идеалами совсем еще недавних лет. Однако следует обратить внимание, что за этим кроется далеко не отречение, а скорее изменение отношения к «непознаваемому»: «...прекрасная дама Теология остается на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят»[117]. Вот в чем дело: теперь поэзия окончательно становится не заклинанием, а лишь способом почувствовать неведомое, приблизиться к нему и «изображать душу в те моменты, когда она дрожит, приближаясь к иному»[118]. Не случайно именно в «Колчане» напечатано «Восьмистишие», смысл которого внешне совершенно ясен:
Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать,
Мы никогда не понимали
Того, что стоило понять.
И, символ горнего величья,
Как некий благостный завет,
Высокое косноязычье
Тебе даруется, поэт.
«Высокое косноязычье» здесь — не просто индивидуальное сочетание, а явная проекция на библейский текст, где Моисей жалуется Господу, что он косноязычен, и слышит в ответ: «...пойди; и Я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить» (Исход, 4, 12). Высокое косноязычье даруется не всякому, а только тому, кто заключил завет с Богом, кто в силах провозгласить истину, которая выше него. И во многих стихотворениях «Колчана» и «Костра» прежнее мистическое настроение стихов-заклинаний объективируется, становится предметом изображения. Характерный пример — потаенная масонская символика, присутствующая во многих гумилевских стихотворениях. М. Йованович довольно убедительно показал, как она определяет строй не только самих стихов, но и жизненного поведения, литературных идеалов зрелого Гумилева[119]. Но одновременно эти же самые представления выносятся в текст, становятся видимыми невооруженным глазом, как в стихотворении «Средневековье»:
Ты помнишь ли, как перед нами
Встал храм, чернеющий во мраке,
Над сумрачными алтарями
Горели огненные знаки.
Торжественный, гранитнокрылый,
Он охранял наш город сонный,
В нем пели молоты и пилы,
В ночи работали масоны.
Но еще более замечателен пример с одним из принципиальных гумилевских стихотворений «Пятистопные ямбы», где поэтическое претворение своей судьбы первоначально было оформлено в масонской символике:
Все выше храм торжественный и дивный,
В нем дышит ладан и поет орган;
Сияют нимбы; облак переливный
Свечей и солнца — радужный туман;
И слышен голос Мастера призывный
Нам, каменщикам всех времен и стран.
В варианте окончательном, напечатанном в «Колчане», масонский конец тщательно элиминирован и заменен «военно-христианским»:
...я пошел, и приняли меня
И дали мне винтовку, и коня,
И поле, полное врагов могучих,
Гудящих грозно бомб и пуль певучих,
И небо в молнийных и рдяных тучах.
И счастием душа обожжена
С тех самых пор; веселием полна,
И ясностью, и мудростью, о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги.
Совершенно очевидно, что функционально эти завершения стихотворения одинаковы, а различные пути «приближения к иному» лишь подчеркивают внутреннюю сущность единого метода изображения и преображения действительности, на который теперь рассчитывает Гумилев.
И вместе с тем нельзя не сказать, что на взгляд очень заинтересованных и тонких критиков далеко не все в «Колчане» выглядело одинаково убедительным. Так, М.М. Тумповская, для которой рецензия на книгу Гумилева была не просто критическим актом, но делом гораздо более интимным, говорила: «А между тем в стихотворениях «Колчана» так явственен перевес их замысла над осуществленным, что приходится их признать — хотя и не без печали — не выдерживающими собственной тяжести»[120]. Об этом же писал и Б.М.Эйхенбаум: «Стиль Гумилева как-то расшатался, оттого так чрезмерны его слова. Они гудят, как колокола, заглушая внутренний голос души». И чуть далее, об очень сходном: «Русь пока не дается Гумилеву, «чужое небо» было ему свойственней. Он говорит о ней знакомыми словами — не то Блока, не то Белого»[121]. Действительно, в «Колчане» голос Гумилева еще не выглядит основанным на внутренней уверенности в своей поэтической правоте. Личный опыт если и врывается в стихи, то в виде не преображенном, а «сыром», непосредственно связанном с сегодняшними переживаниями. Для выявления собственного, выношенного слова Гумилеву надо было уйти от непосредственных впечатлений, «остранить» их, увидеть происходящее не как участнику, а как действующему лицу и стороннему наблюдателю одновременно.
Гумилев с фронта пишет Ларисе Рейснер о своей тоске по твердым формам стиха, о желании написать большую классическую трагедию в стихах. Очевидно стремление внутренне отъединиться от окружающего мира, перебороть его. Возможно, это было вызвано разочарованием в войне, поначалу воспринимавшейся как святое и величавое дело («Второй год», в преломленном через историю многовековой давности виде — «Гондла»), возможно — предчувствием ранней смерти («Рабочий». «Священные плывут и тают ночи...» и др.), — о причинах можно гадать, но желание стать в новые отношения с эпохой и окружающим миром очень заметно в поэзии Гумилева 1916—1917 годов.
И тут судьба преподнесла поэту подарок, сначала как именно подарок не осознанный: Гумилев командируется на Салоникский фронт, но по дороге застревает в Париже и Лондоне. Почти год, проведенный им там, оказался годом большого творческого взлета: трагедия «Отравленная туника», едва ли не лучшее прозаическое произведение (увы, не оконченное) «Веселые братья», значительная часть «Костра» и множество стихотворений, оставшихся в парижских и лондонских альбомах, — все это столь значительно, что может составить целый томик, который окажется тяжелей многих других. Отодвинувшись в относительно спокойный мир, Гумилев получил возможность взглянуть на свою жизнь несколько отрешенно, увидеть в ней не только реальный человеческий путь, но и движение к некоей высшей цели.