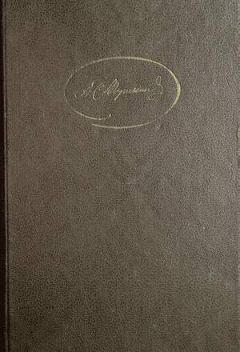С. Фомичев - Пушкинская перспектива
Тотчас собрались и пошли на поле, где мужик убирал снопы. Вот стали они подходить; мужик увидал, испугался и не знает, что ему делать…[103]
На этом обрывался текст в каноническом издании, но в примечаниях составитель указал, что «с окончанием этой сказки желающие могут познакомиться в стихотворной ее переделке в Сочинениях Василия Майкова».[104]
Басня же В. Майкова «Крестьянин, Медведь, Сорока и Слепень» заканчивалась так:
…Хозяйка к мужичку обедать принесла,
Так оба сели
На травке и поели.
Тогда в крестьянине от сладкой пищи кровь
Почувствовала – что? К хозяюшке любовь;
«Мы время, – говорит, – свободное имеем,
Мы ляжем почивать;
Трава для нас – кровать».
Тогда – и где взялись? – Амур со Гименеем,
Летали вкруг,
Где отдыхал тогда с супругою супруг.
О, нежна простота! о, милые утехи!
Взирают из дерев, таясь, игры и смехи
И тщатся нежные их речи все внимать.
Была тут и сама любви прекрасна мать,
Свидетель их утех, которые вкушали;
Зефиры сладкие тихохонько дышали
И слышать все слова богине не мешали…
Медведь под деревом в болезни злой лежал,
Увидя действие, от страха весь дрожал,
И говорил: «Мужик недаром так трудится:
Знать, баба пегою желает нарядиться».
Сорока вопиет:
«Нет,
Он ноги ей ломает».
Слепень с соломиной бурчит и им пеняет:
«Никто, – кричит, – из вас о деле сем не знает,
Я точно ведаю сей женщины беду:
Она, как я, умчит соломину в заду»…[105]
В народной сказке нет, конечно, ни амуров, ни зефиров: любовная сцена там изображена вполне натуралистично.[106]
Нас не должно удивлять присоединение к основному (так и неразвитому) сюжету дополнительных мотивов (убийство медведихи, плач медведя, сход зверей). «Эта соединяемость, – отмечает В. Я. Пропп, – внутренний признак животного эпоса, не присущий другим жанрам. Отсюда возможность романов или эпопей, которые, как мы видели, так широко создавались в западноевропейском средневековье».[107] Тем более, что в нашем случае с самого начала выведены в качестве главных персонажей мужик и звери, что предполагает обогащение животного эпоса новеллистическими (анекдотическими) чертами. От анекдота в сюжете AT 152 намечен эротический мотив, от животного эпоса – мотив неожиданного испуга зверей.
Однако зачин (описание гибели медведихи) задуманной Пушкиным сказки оказался по тону явно не соответствующим балагурной модели сюжета. Вообще-то «смерть в сказке о животных вовсе не вызывает скорби и печали (…) Классические сказки о животных демонстрируют то единство страшного и веселого, жизни и смерти, которое так хорошо знакомо по народным обрядам с их веселыми похоронами: смех тут нераздельно слит со смертью».[108] Так в процессе дополнительной разработки начального эпизода в сказке Пушкина появляется отсылка к скоморошине «Дурень». Но наряду с этим более подробно были описаны и «медвежатушки», а весь зачин сказки окрасился в лирические тона,[109] что вступало в некоторое противоречие с намеченной общей комической фабулой. Может быть, потому работа над произведением и была оборвана в самом начале. Вместо этого Пушкин в Болдине обратился к сказочному сюжету о Балде – также озорному, но не несущему эротического, «соромного» содержания.[110]
Баллада Пушкина о рыцаре бедном
На поиски литературного источника пушкинской баллады «Жил на свете рыцарь бедный…» были направлены, начиная с Н. Ф. Сумцова,[111] усилия многих исследователей.
Учитывая обширную литературу данного вопроса, можно полагать, что Пушкину была известна продуктивная традиция перелицовки так называемого «Книдского мифа»,[112] в котором в Средние века героиня Венера была замещена Мадонной, Богородицей.
Суть мифа сводилась к следующему: некий юноша в пылу игры в мяч снял мешавшее ему обручальное кольцо и надел его на палец статуи Венеры (в средневековых изводах – Мадонны). Тем самым герой оказался обрученным с богиней, которая, в конечном счете, отвратила его от земной женщины.[113] Но в многочисленных западноевропейских разработках данного сюжета, однако, так и не было обнаружено оригинального – пушкинского – развития традиционной коллизии.
Исследовав заново источниковедческую проблему, современный автор заключает:
Загадка, характеризующая «Легенду», остается не разрешенной до конца. Однако то, что, создавая своего «Рыцаря», Пушкин выбрал форму жанра французского миракля или фаблио, не вызывает сомнения, «Легенда» – это отражение пушкинского восприятия средневековья, его понимания образа идеального средневекового рыцаря сквозь призму его личных чувств или настроений. «Легенда» – это оригинальное произведение, в котором ощущаются черты подлинности, а не подделки, что во многом определяется особенностями жанра, выбранного для рассказа о любви простого смертного к Святой Деве, жанра средневекового миракля с использованием присущих ему черт наивности, простодушия и даже примитивности. (…) Нет в старофранцузской поэзии такого миракля, но стихотворение Пушкина дает верное представление о жанре миракля.[114]
Главное своеобразие пушкинской интерпретации традиционной коллизии заключается в полном снятии (что касается первой, пространной редакции произведения) эротических мотивов. Из пушкинской легенды исчезает образ «соперницы», мечта же «рыцаря бедного» о Святой Деве исключительно набожна.
Это заметно уже в движении ряда строк от беловика ПД 891 к ПД 221, и тем более от черновой рукописи (ПД 833). Баллада Пушкина стилистически выстроена как простодушный пересказ любопытной истории, локально и хронологически далекой для повествователя, но тем не менее принимаемой за истину. «При сопоставлении средневековых легенд с пушкинской – возникает ощущение, что между ними остается, при несомненном сюжетном сходстве, колоссальная культурно-историческая бездна», – замечает И. 3. Сурат,[115] считая, что Пушкину в конце 1820-х годов стали ближе мотивы платонической любви и разлуки, воспетые в лирике и балладах В. А. Жуковского. Но в этом отношении характерно пушкинское замечание о Жуковском в письме к П.А.Плетневу (апрель 1831):
С нетерпением ожидаю новых его баллад. И так былое с ним сбывается опять. Слава Богу! Но ты не пишешь, что такое его баллады, переводы или сочинения. (…) Предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским. Если [вдохновенье] всё еще его несет вдохновением, то присоветуй ему читать Четь-Минею, особенно легенды о киевских чудотворцах; прелесть простоты и вымысла! (XIV, 162–163).
Именно в житийной стилистике и передана Пушкиным легенда о «рыцаре бедном». В рукописи ПД 891 это обозначено с самого начала: «Был на свете рыцарь бедный, / Молчаливый, как святой…». Прямое уподобление было позже снято, но обеты молчания, затворничества, своеобразных вериг («стальной решетки он с лица не подымал») героем неукоснительно соблюдаются.[116]
Ср. в «Житии Сергия Радонежского» об Исаакии-мол-чальнике:
И тако пребысть млъча вся дни живота своего, по реченому: «Азъ же быхъ, яко глухъ, не слыша, и яко нѣмъ, неотвѣрза устъ своихъ». И тако подвизався великимъ въздържаниемъ, тѣло своеудручаа ово постомъ, ово бдѣниемъ, ово же млъчаниемъ, конечнее же послушаниемь до последнего своего издыханиа.[117]
В пушкинской выписке из Четьих Миней о преподобном игумене Савве также отмечается:
Тамъ святый иночествовал въ безмолвш, терпя ночныя морозы и тяготу вара дневнаго.[118]
Общим местом агиографии было описание чудесного явления Богородицы. См., например, в «Житии Сергия Радонежского»:
И се свѣтъ велий осени святого зѣло, паче солнца сиающа; и абие зритъ пречисту, с двема апостолма, Петром же и Иоанном, в неизреченной светлости облистающася.[119]
В «Житии Елиазара Анзерского, написанном им самим»:
В день недельный, во святый постъ, видехъ святую богородицу на литургии умнымъ окомъ: стояща пред образомъ своимъ болыпимъ от леваго крылоса, лицемъ на церковь. И нача мы на сходѣпѣти оба крылоса стихъ «О тебѣ радуется обрадованная» задостойна. Она же не двинуся с того мѣста и ста посредѣ насъ съ молчаниемъ, стояла до скончания стиха того. Мы же пропевше поклонишася по обычаю, она же тако же поклонися и невидима бысть.[120]
В «Житии Епифания»:
И наиде на мя яко сонъ. И слышу – богородица руками своими больную руку мою осязаетъ. И преста рука моя болѣти и от сердца моего отъиде тоска, и радость на меня наиде.[121]
Встреча «рыцаря бедного» с Богородицей также описывается в житийном ключе. «Большое значение в агиографии, – замечает Л. А. Дмитриев, – имела проблема достоверности. Достоверность должна была заставить поверить читателя или слушателя жития в то, что все чудесное и необычайное, связанное со святым, было на самом деле. Чем невероятнее, сверхъестественнее рассказываемое, тем необходимее уверить читателя, что оно было и есть. Фантастическое нуждается в обрамлении конкретным и реальным. Поэтому в чудесах обозначаются точные даты, называются реальные имена, определенные географические пункты и т. п.»[122]