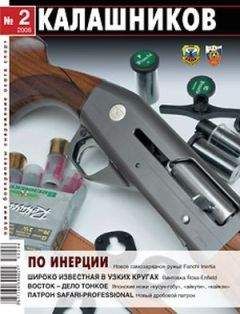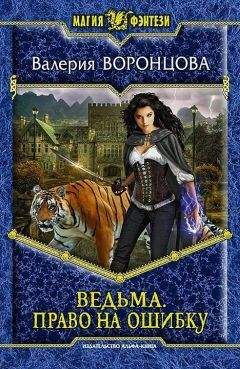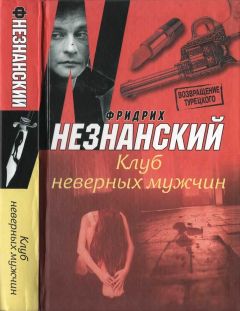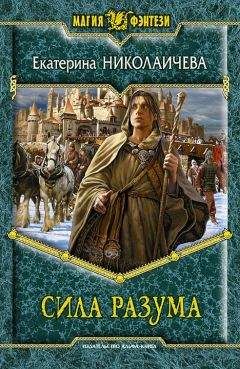Тамара Заверткина - Мои Турки
Помнит Томуська, как Катя завертывала ее в маленькое стеганое бордовое одеяльце, сажала в саночки и везла к подруге своего детства Ксене. У Ксени Катя снимала выкройку детских трусиков для дочурки {и это Тома помнит). Маленькая Тома играла с Алей, дочкой Ксени. Аля уже умела лепетать стишок:
— Летели две птички, Собой невелички,
Я в саду, в саду была, В саду розы я рвала.
Дома Катя упрекнула дочку за то, что она стихов не знает. И этот упрек память двухлетнего ребенка ухватила на всю жизнь.
Часто вся семья зимними вечерами собиралась на кухне. При керосиновой лампе велись разговоры, грызли жареные подсолнечные семечки. Маленькую девочку Катя держала на руках.
— А у меня крупа в глазах, — сказала Тома.
— Это значит, ты хочешь спать, сейчас тебя уложу, — ответила Катя. Не понравилось Томуське такое заключение, расплакалась:
— Я совсем не хочу спать, это крупа.
Но девочку понесли в горницу. За голландкой грелось ее бордовое одеяло. За день зимой комната выстывала, вечером ее немного протапливали. Чтоб не класть девочку в холодную постель, Катюша сначала завертывала ее в подогретое одеяло и часто повторяла:
— Не раздевайся, а то буду связывать.
Если Катя со своею матерью о чем-то спорили, малышка не понимала, кто прав. Но душою она все равно была на стороне матери.
Тома очень любила свою мать. Девочку любила вся семья. Но ни с кем ей не было так хорошо, как с мамой Катей, ей никогда не хотелось расставаться с матерью даже ненадолго. Иногда вечером, особенно летом, когда было еще светло, Катя брала керосиновую лампу, зажигала ее и опускала в стекло сверху плойки для кудрей, маленькой Томе становилось очень грустно, так как, сделав кудри, Катя в этот вечер куда-то из дома уйдет.
Лицом Тома была похожа на мать, только у нее не было красивых синих глаз. Они были темно-карие, в отца. И кожа была смуглее, чем у Кати.
По поводу глаз над девочкой подшучивали:
— Что же ты глаза не моешь? Сама чистая, а глаза грязные, черные. Томуська понимала шутку.
Когда Томе исполнилось годика два, Катя уже устроилась на работу. Наташа по-прежнему шила детские рубашечки и носила на базар продавать. Томуську оставляли под присмотром прабабушки Маши — матери Петра Константиновича. Девочка ее любила и называла ласково ба-банечкой. Оставшись в доме вдвоем, бабанечка что-то мотала в клубки, распуская старые носки и варежки. Тома играла в куклы. Однажды ей захотелось сшить самой маленькой куколке юбочку. Но из чего? Девочка открыла крышку небольшого сундучка, увидела там поношенные штанишки Лиды, на которых была красивая заплаточка — розовая в белый горошек. Тома тут же отпорола эту заплаточку. Взрослые потом слегка посмеялись над ее «находчивостью». Это ее подбодрило. И в следующий раз, когда бабанечка уткнула нос в вязание, Томулька вытащила из сундучка все вещи, тщательно пересмотрела и отпорола все заплатки. Вот тут уж ее не похвалили, поругали. Ее никогда не наказывали, не ставили в угол и уж, конечно, не шлепали. Этого не было принято в семье Осиных. Наташа ни разу не подняла руку ни на одного из своих детей, даже если кто-то провинился. У нее было неизменное ругательство:
— Смотри у меня! В следующий раз убью до смерти.
К этим словам привыкли, и никто всерьез их не принимал.
Однажды бабанечка снова занималась вязанием, а Тома укладывала своих кукол спать, потом наряжала, «кормила», водила в гости одну к другой. И вдруг обратила внимание на то, что одна из кукол совсем порвалась, стала совсем старой.
— Бабанечка, а можно мне вот эту куклу похоронить?
— Похорони, если не жалко, — ответила прабабушка Маша, не отрываясь от вязания.
Жалко все-таки Томке куклу:
— Похороню я ее понарошку.
Тома перевернула табуретку вверх ножками, положила на дно носовой платочек, а на него куклу. Всех остальных многочисленных кукол поставила вокруг табуретки-могилы. Куклы горюют, плачут. И вдруг одна из них упала «в обморок». Разбилась у куклы половина головы, у той самой куклы, которую сшила ей Маруся. От горя у Томуси полились слезы. Хотела пожаловаться бабанечке, а ее у окошка нет. Уже на печке бабанечка, спит. Бросилась к ней Томка, пытается разбудить. Не просыпается бабанечка:
— А что, если она умерла?
Томуську охватил жуткий страх. Но нет, дышит старушка, да еще и похрапывает. Трясет ее девочка — все напрасно. Снова Томе стало страшно. Никогда ее не оставляли одну. А при спящей бабушке она все равно, что одна. И разбудить не может, а от храпа еще страшнее.
И вдруг Томку осенило:
— Зажму-ка я ей нос и рот, авось проснется.
Бабушка проснулась. С тех пор Тома и применяла этот метод, если бабанечка засыпала.
Но дружба у прабабушки Маши с правнучкой была крепкая. Маша как от коршуна, словно наседка, защищала своего цыпленка. Однажды Томку толкнул Громов Володька. Откуда и прыть взялась у щупленькой бабанечки, помчалась бегом через огород Рыбниковых догонять обидчика. Да разве его догонишь?
— Бабаня, а можно мне босиком походить по дорожке?
— И думать не смей, только в тапочках.
Ах, как девочке хотелось, как Громовым ребятишкам, тоже походить босиком! И однажды ослушалась, пошла. Она и не думала, что это так колко. Но руки прабабушки подхватили ее и понесли обуваться. Никак не понимала девочка, почему все Громовы бегают бегом по скошенной траве, колючкам, а она и двух шагов сделать не смела.
Часто правнучка со своей прабабушкой ходила в гости. Была у Маши любимая подруга Маша Черноклокова. Начинает прабабушка наряжаться: одевает нижнюю белую юбку в сборках, на нее черную, тоже в сборках, затем кофту тоже несветлую, но в цветок, а поверх всего новый фартук. На ноги — полусапожки, на голову неяркий платок, заколотый под бородой булавкой.
По пути в гости им встречаются знакомые:
— Да кто же это идет? Никак говорунья! Это ведь не девочка, а Москва.
Разговаривать Тома начала очень рано.
Шел Тамаре уже четвертый год. Только что прошла Троица, когда девочке исполнилось три года. Катюша решила сфотографировать ее у самого лучшего фотографа Турков, у Добрынина. Жил он на Турковой горе. Томе запомнилась эта дорога в гору. Добрынин провел их через сени во двор и сфотографировал на фоне своего дома.
Катюша очень берегла свою дочку. Едва почувствовав повышенную температуру, спешила в больницу:
— Вот пойдем с тобой к доктору, потом врач выпишет лекарство, и все будет хорошо.
— Нет, давай не пойдем к врачу, пойдем лучше к доктору, я боюсь врача.
Катя убеждала девочку в том, что врач и доктор — это одно и то же. Тома верила и не верила, ей все казалось, что врач — человек очень сердитый, потому что слово «врач» походило на слово «рвач».
А возвращаясь домой из больницы, Катя никогда не могла отказать себе в удовольствии нарвать на выгоне на Селявке букетик гвоздик. Как же она всю свою жизнь любила цветы!
Возможно, до своей поездки в Махачкалу уделяла б дочери еще больше внимания, но работая в суде, она подолгу не бывала в Турках в связи с бесчисленными выездными сессиями по делам раскулачивания и возвращалась с тяжелым сердцем.
Все последующие годы до школы Тома была окружена сестрами своей матери. По возрасту ей ближе была младшая сестра матери — Лида. Эта девочка совсем не была похожа на своих старших сестер. Те двое были довольно плотными девушками, хоть стройными, с тонкими талиями. Лида была тоненькая, как березка, и с очень тонкими чертами лица, в котором ничего не было восточного. Внешностью она почти повторила свою мать с той разницей, что у Лиды были очень большие глаза. Она была веселой девочкой и такой легкой, что никогда почти не ходила, а бегала бегом.
Однажды, возвращаясь из школы, она прыгала на одной ножке и декламировала:
Я веселая девчонка,
Весела, как ясный день,
А зовут меня Аленка,
Я пришла из деревень.
Я пришла с полей весенних,
Где смеются васильки…
В открытую дверь она увидела сидевшего за столом старшего брата Николая, приехавшего в отпуск.
— Так ты у нас, оказывается, Аленка? — захохотал брат, который очень любил младшую сестренку.
Лида обиделась. Но прозвище Аленка так и осталось за ней на всю (к сожалению, очень короткую) жизнь.
Но Тома была все-таки еще маленькой и не могла быть Лиде подругой. А вот Тоня Калинкина была Лиде подругой настоящей. Дружили они с самого раннего детства, вместе пошли в школу и стали совсем неразлучными.
Калинкины жили на этой же улице неподалеку от Осиных. Наташа и Матреша Калинкина были, как и их дочери, тоже подругами. Тем более, их объединяло не только соседство, но и общее дело. Они шили рубашечки и вместе ездили торговать по району, вместе задумали откладывать деньги, чтоб потом на них и строиться. Но у Ку-делькиных денег было несколько меньше, немного не хватало леса, на окна не хватило ставень, а одно окно так и оставалось долгие годы без ставень. У Калинкиных дело, видимо, шло лучше. Они построили себе дом кирпичный. Возможно, сами заработали, возможно, помогли родные, но дом у них получился отличный, и Тома с бабушкой Наташей не раз ходили потом в их новый дом.