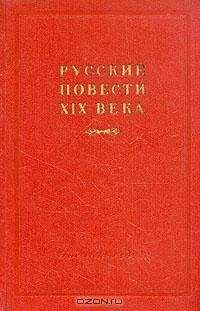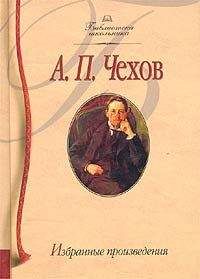Лео Яковлев - Антон Чехов. Роман с евреями
По-видимому, некоторые размышления о Волынском, более глубокие, чем те, что были высказаны в письмах Суворину, помогли Чехову определиться в давно волновавшем его вопросе о конфессиональной принадлежности человека и выделить в нем «внешнюю» сторону: «Да разве такие слова, как православный, иудей, католик, служат выражением каких-нибудь исключительных личных достоинств, заслуг? По-моему, величать себя православным волей и неволей должен всякий, у кого это слово прописано в паспорте. Веруете Вы или нет, князь мира Вы или ссыльнокаторжный, Вы в обиходе все равно православный. И Соловьев вовсе не брал на себя никаких претензий, когда отвечал, что он не иудей и не халдей, а православный…» (А.Суворину, 18 ноября 1891 г.).
Это написано Чеховым по поводу фельетона, которым Суворин откликнулся на дискуссию в «Московских ведомостях» о православии с участием Вл. Соловьева, В.Грингмута и Ю.Говорухи-Отрока. Чехов выделяет в фельетоне Суворина Вл. Соловьева и «защищает» его, хотя против него направлена лишь одна фраза: «У Вл. Соловьева я ненавижу его фальшивые антинациональные идеи», а основной выпад «Нового времени» направлен на очередного выкреста. «Я не могу и подумать о том, что мое православие может идти в какое бы то ни было сравнение с православием св. Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, православие которых не удовлетворяет такого православного, как г. Грингмут», — писал Суворин. Но Чехов не хочет углубляться в дискуссию о выкрестах и удовлетворяется формальным решением вопроса: по паспорту православный — значит православный. Однако примерно в это же время он делает следующую запись в своей первой Записной книжке:
«Легкость, с какою евреи меняют веру, многие оправдывают равнодушием, но это не оправдание. Нужно уважать и свое равнодушие и не менять его ни на что, так как равнодушие у хорошего человека есть та же религия» (с. 68).
К фразам Чехова из его Записных книжек нельзя непременно относиться как к его собственным мыслям, поскольку в большинстве случаев это «заготовки» для персонажей будущих пьес, рассказов, повестей. Так, например, фраза «Мне противны: игривый еврей, радикальный хохол и пьяный немец» (с. 102) легко вписалась бы в журнальный вариант «Именин», где присутствовал шаржированный «радикальный хохол», впоследствии исключенный Чеховым, чтобы избежать очередных упреков в созвучии с «Новым временем», активно проводившим, наряду с антисемитской, антиукраинскую пропаганду с издевательством над украинским языком и украинскими писателями.
Тем не менее многие записи в определенной мере отражают его собственные раздумья, и фраза о «легкости» в перемене веры, видимо, свидетельствует о том, что вопрос о выкрестах для Чехова еще не был закрыт. Его удивляла неравнодушная активная философская позиция этих прозелитов: вместо того чтобы спокойно заниматься своими личными делами, облегченными их переходом в господствующую в государстве религию, они, в своем большинстве, бросаются учить христиан по рождению, а не только «по паспорту», какой должна быть их христианская вера, как это делал г. Грингмут в полемике с Вл. Соловьевым. Чехов никогда не скрывал, что он сомневается в искренности этих незваных «учителей», и эти «элементарные» сомнения явственно ощутил Волынский, наблюдая его реакцию на свои «взволнованные» и «вдохновенные» богословские тирады. Впрочем, все это показалось Волынскому признаком интеллектуальной недоразвитости Чехова, и он записал: «Конечно, Чехов в простодушии своем (!!! — Л.Я.) делил людей на простые группы: евреев и христиан, нисколько не подозревая даже, как призрачны и близоруки такие детские различения в вопросах седой древности». Такой вот «простачок» попался Волынскому на его жизненном пути! Для нас, имеющих некоторое представление об объеме знаний Чехова, о количестве и разнообразии прочитанного им за его недолгую жизнь и о его гениальной способности мгновенно проникать в сущность вещей, претензии вечного студента Волынского с его менторским тоном по отношению к Чехову на право оценивать его интеллект кажутся смешными. Смешными они казались и самому Чехову, безусловно, знавшему, что все необходимое человеку на его жизненном пути есть у Екклесиаста, и Чехов задумывает комедию (естественно, в чеховском понимании слова «комедия») с участием подобного Волынскому «облезлого философа», наделенного неукротимым духом Баруха Спинозы, но лишенного мудрости и таланта этого великого еврея-мыслителя.
Упоминание об этом замысле относится к 1894 г., когда Чехов писал из Крыма:
«И вот что мне нужно для пьесы, если я буду писать ее в Крыму: пришлите мне через московский магазин книжку Людвига Берне, холодного жидовского умника. Я хочу вывести в пьесе господина, который постоянно ссылается на Гейне и Людвига Берне. Женщинам, которые его любят, он говорит, как Инсаров в «Накануне»: «Так здравствуй, жена моя перед Богом и людьми!», оставаясь на сцене solo или с женщиной, он ломается, корчит из себя Лассаля, будущего президента республики; около же мужчин он молчит с таинственным видом и при малейших столкновениях с ними у него делается истерика. Он православный, но брюнет по фамилии Гинзельт. Хочет издавать газету» (А. Суворину, 1894 г.).
Впрочем, замысел пьесы из жизни интеллектуалов, по-видимому, обсуждался с Сувориным за несколько лет до того, как ее главный герой стал «православным брюнетом» и обрел фамилию Гинзельт, так как еще в начале 1892 г. Чехов сообщал ему о своем желании иметь книги Берне (одна из них была, кстати, издана самим Сувориным), «когда буду писать пьесу», и добавлял: «Это один из тех очень умных умов, которые так любят евреи и узкие люди» (А. Суворину, 31 марта 1892 г.).
Если бы этот замысел осуществился, Гинзельт был бы в творчестве Чехова третьим православным брюнетом (после Александра Иваныча из «Перекати-поле» и фон Корена из «Дуэли»). Но фон Корен у него был естественником, почти фашистом, исповедовавшим социальный дарвинизм, и к авторитету Гейне или Берне не прибегал. Кроме того, единственным смутным упоминанием о возможном еврейском (или полуеврейском) происхождении фон Корена в «Дуэли» были слова Лаевского о «немецких выходцах из жидов», сказанные в гневе, которые, скорее всего, должны были показать, что в критические моменты жизни с русского, даже интеллигентного, человека осыпается тонкий слой культурки, и он начинает бранить жидов, обвиняя их во всех своих несчастьях.
Гинзельту же, вероятно, предстояло стать еврейской разновидностью Лаевского — русским интеллигентом-гуманитарием еврейского происхождения, и в этом качестве он, безусловно, мог иметь одним из своих прообразов Акима Волынского-Флексера, любившего многословные посвящения в своих трудах (об этом писал Чехов Горькому, прося, чтобы посвящение «Фомы Гордеева» ему, Чехову, было предельно кратким), но не «Филоксеру» из переписки Чехова с Сувориным.
В этой пьесе, в устах одного из действующих лиц, могла бы появиться и фраза о «легкости» евреев в перемене веры, и даже обожаемая всеми теми, кто хотел бы видеть Чехова «своим» антисемитом, запись о том, что Лесков и Максимов «не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все — евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, непонятной для них, и видящие в русском человеке ни больше, ни меньше, как скучного инородца, и что руководимую этими критиками петербургскую публику уже не интересует Островский и не смешит Гоголь».
Однако Чехова отвлекли иные планы, и сага о Гинзельте не была
Глава 7
ЗВУКИ СКРИПКИ В ПРОСТРАНСТВЕ
МЕЖДУ «ЕСТЬ БОГ» И «НЕТ БОГА»
В одной из монографий о жизни и творчестве Чехова я встретил такую фразу: «Однако 1894 год принес размежевание Чехова с Сувориным по делу Дрейфуса и такое дефинитивное суждение, исчерпавшее еврейскую тему для Чехова, как «Скрипка Ротшильда». Пьеса о еврее-журналисте осталась ненаписанной» (Е. Толстая. Поэтика раздражения. М., 1994).
Появление подобных высказываний о Чехове вызывает искреннее удивление: жизнь этого человека есть, можно сказать, открытая книга и может быть восстановлена день за днем. Никакого «размежевания» с Сувориным в 1894 г. у Чехова не происходило, а состоявшийся в том же году во Франции первый судебный процесс по «делу Дрейфуса», скорее всего, не привлек его внимания. Реакция Чехова на него неизвестна. Правда, однажды в 1893–1894 гг. в письме к Суворину он упоминал о «деле Дрейфуса», но в том случае речь шла о судебном процессе над одесской хлеботорговой фирмой «Дрейфус и K°» по обвинению в мошенничестве при экспорте хлеба во время голода в Самарской губернии. То, что эта одесская фирма принадлежала евреям, было важно для Суворина и его газеты, использовавшей сей процесс в своей антисемитской пропаганде. Для Чехова же национальная принадлежность хозяев этой фирмы никакого значения не имела, так как в его концепции евреи, наравне с прочими, были гражданами Российской империи, и среди них воровство и мошенничество могло процветать столь же успешно, как эти пороки во все времена процветали среди миллионов русских и иных граждан этой самой империи. Поэтому шум, поднятый вокруг фирмы «Дрейфус и K°» и вокруг происходившего в Одессе суда, на отношениях Чехова с Сувориным не отразился, и отношения эти, как свидетельствует их переписка, оставались теплыми и почти что родственными вплоть до конца 1897 г.