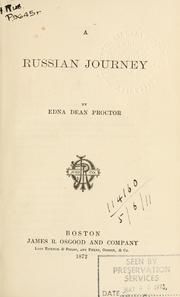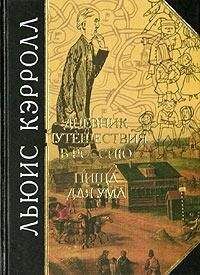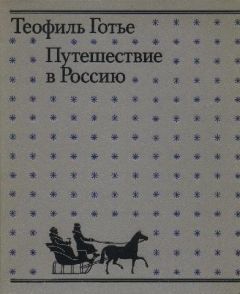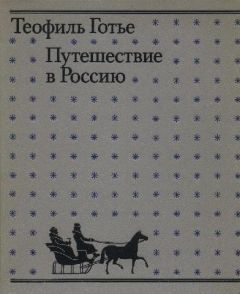Станислав Куняев - Мои печальные победы
Грань между принесением в жертву государством своих сыновей и дочерей и добровольным самопожертвованием зыбка и подвижна. Да, множество несогласных с жестокой дисциплиной и скоростью «грозного строительства» томились в лагерях великой страны, но десятки миллионов созидали ее, не щадя живота своего, понимая суровую истину слов вождя: «Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». И чуть было не смяли.
За несколько месяцев до смерти в стихотворении «Банкет на Урале» Ярослав Смеляков в последний раз безоговорочно поставил точку и благословил добровольную всенародную жертву, вспомнив о том, что первый в его жизни банкет случился в середине тридцатых годов – «в снегах промышленных Урала».
Я знал, что надо жить смелей,
но сам сидел не так, как дома,
среди седых богатырей
победных домн Наркомтяжпрома.
Их осеняя красоту,
на сильных лбах, блестящих тяжко,
свою оставила черту
полувоенная фуражка.
И преднамеренность одна
незримо в них существовала,
как словно марка чугуна
в структуре черного металла.
Пей чарку мутную до дна,
жми на гуляш с нещадной силой,
раз нормы славы и вина
сама эпоха утвердила.
Барельефы этих богатырей, отлитые словно бы из каслинского чугуна, не менее величественны, нежели мраморные статуи богов и героев Эллады. А по своей ли, по государственной ли воле вершили они подвиги, поэт различать не хочет, ибо понимает, что обе силы – и внешняя и внутренняя – двигали ими… Недаром же он, трижды попадавший на круги лагерного ада, ни в одном своем стихотворенье ни разу нигде не проклял ни эпоху, ни свою судьбу, ни Сталина, умело использовавшего для строительства оба могучих рычага истории: вдохновение и принуждение. А ведь в шестидесятые годы рядом со Смеляковым уже писали, уже издавались и Солженицын, и Юрий Домбровский, и Варлам Шаламов. Но как ни старалось поэтическое окружение Смелякова – Евтушенко, Межиров, Коржавин и другие искренние или фальшивые певцы революции и социализма добиться от Ярослава осуждения эпохи первых пятилеток, старый лагерник не пошел на самоубийственный шаг и не предал ни своего призвания, ни своей судьбы. А если и прикасался к «высоковольтным проводам» времени, то с какой-то своей, осторожной человечностью.
Когда встречаются этапы
вдоль по дороге снеговой,
овчарки рвутся с жарким храпом
и злее бегает конвой.
………………………………
И на ходу колонне встречной,
идущей в свой тюремный дом,
один вопрос тот самый вечный,
сорвавши голос, задаем.
Он прозвучал нестройным гулом
в краю морозной синевы:
Кто из Смоленска? Кто из Тулы?
Кто из Орла? Кто из Москвы?
И слышим выкрик деревенский,
и ловим отклик городской,
что есть и тульский и смоленский,
есть из поселка под Москвой.
Ах, вроде счастья выше нету —
сквозь индевелые штыки
услышать хриплые ответы,
что есть и будут земляки.
Шагай, этап, быстрее, шибко,
забыв о собственном конце,
с полубезумною улыбкой
на успокоенном лице.
А к евтушенковско-межировским крикам о тоталитаризме и культе личности Смеляков относился с плохо скрытой брезгливостью. Всем с нетерпением ожидавшим от него после XX съезда партии мазохистского осуждения истории, проклятий тоталитарному режиму, солженицынского, говоря словами Блока, «публицистического разгильдяйства», он неожиданно ответил публикацией стихотворенья «Петр и Алексей».
Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно белеют щеки,
и рука лежит на столе.
Та, что миловала и карала,
управляла Россией всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.
Как похож его «строитель чудотворный» на богатырей из Наркомтяжпрома, на Тараса Бульбу, приговорившего к смерти изменника – сына Андрея, на Иосифа Сталина, отчеканившего: «Я солдат на генералов не меняю», когда ему предложили обменять попавшего в плен сына Якова на фельдмаршала Паулюса.
День в чертогах, а год в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.
Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись пред нею,
замер слабостный Алексей.
Читаешь и словно бы видишь, как от столкновения мощных и противоречивых чувств из разгневанных очей Петра искры летят, как от стального лезвия, соприкоснувшегося с точильным камнем.
Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
«На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?»
Нет, не в петровской гордыне тут дело, не в сверхчеловеческом тщеславии. Все серьезней: Алексей – это угроза делу Петра, создаваемой его волей новой жизни, будущему России.
Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи, —
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.
Что происходит в этой сцене? Кто и чем жертвует? Кто идет на самопожертвование? И то и другое происходит одновременно. Ибо Алексей – плоть от плоти государевой, он его наследник, его продолжение, и, отправляя сына на казнь, Петр как бы жертвует кровной частицей себя самого… В это мгновенье талант Смелякова взмывает до вершин мировой поэзии, где в разреженном горнем воздухе витают героические души протопопа Аввакума, эсхиловской Антигоны, гоголевского Тараса, пушкинского Медного Всадника:
«Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и улыбка моя и руки
неумело повторены.
………………………
Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело —
самодержцем российским быть!…»
И в это мгновенье человеческой слабости лик Петра становится похожим на лик крестьянки-работницы, пожертвовавшей льняным венком ради «стального венца индустрии», женщины, подавляющей свою жалость, которая все равно проступает в почти окаменевших от напряжения чертах:
Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы.
По всем портретам и скульптурам видно, что у Петра, человека великой воли, был небольшой подбородок… Но главный трагический парадокс стихотворенья в том, что поэт жалеет не сына, не жертву, а Петра-жреца за его страшное отцовское решенье и за его отцовскую муку.
Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.
Молча скачет державный гений
по земле – из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.
Опять и опять, в который раз Смеляков не может отделаться от искушения разгадать – какой же венец окаймляет головы его героев и есть ли в нимбах, осеняющих лики, отблеск святости… А потому столь навязчиво и постоянно возникает в его поэзии образ венка: «императорский твой венец», «тусклый», почти терновый «венчик его мучений», «красное пламя косынки», венок из цветущего льна на голове крестьянки, «красный колпак санкюлота», вдавленная морщина от «полувоенной фуражки» на сильном лбу богатыря из Наркомтяжпрома, «черный венок моряка», «большой венок тяжелой индустрии»…
…В смеляковские времена помню, как однажды я выступал в Медицинском институте вместе с поэтом Наумом Коржавиным. Сейчас молодое поколение литераторов, видимо, не знает его имени, а в те годы Коржавин был «широко известен в узких кругах». Иные критики считали его чуть ли не одним из крупнейших наших поэтов.
На вечере он прочитал стихи об Иване Калите. Якобы никакого объединения Руси он не желал, а просто был интриганом, травил соседних князей, науськивал на них татар, чтобы расширить свою вотчину. Словом, мелкий злодей, и нечего ему хвалу возносить…
Я вспомнил стихи о Калите, когда узнал, что Коржавин-Мандель уехал в Америку, и стыдно мне стало, что не понял я тогда всю меру ненависти к России, которую изливал в наивной студенческой аудитории этот тщедушный литератор, с брезгливым, высокомерным выражением лица, со всклокоченной головой, ушедшей в пиджачный воротник, густо облепленный перхотью.
Не понял – потому и промолчал или даже сам аплодировал. А вот Смеляков – тот понимал. Недаром, вспоминая лукавого князя, он писал:
Небритый, худой, бледнолицый,
уже не боясь ни черта,
по улицам шумной столицы
иду, как Иван Калита.
Великий русский философ нашей эпохи Алексей Федорович Лосев, сам, как и Смеляков, познавший в 30-е годы вкус лагерной баланды, размышляя о том, что такое в философском смысле понятие «жертва», писал в одной из своих работ на исходе 1941 года: