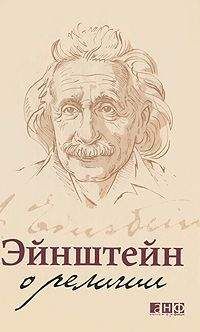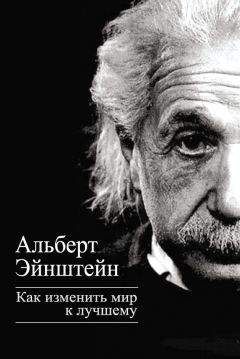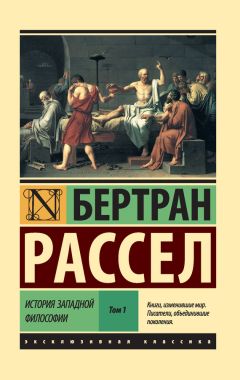Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
Что могли ответить на вопросы Ивана Денисовича «осведомленные люди» в Особлаге зимой 1951 года – об этом еще следует подумать. Для нас несомненно другое – заслуга писателя, выбирающего своим героем человека, условно говоря, рядового и обыкновенного.
Впрочем, рядовым человек кажется тому, кто торопливо проходит перед фронтом, не заглядывая в лица. Тому же, кто сам стоит в ряду, его положение не кажется ни рядовым, ни обыкновенным.
Появление в литературе такого героя, как Иван Денисович, – свидетельство дальнейшей демократизации литературы после XX съезда партии, реального, а не декларативного сближения ее с жизнью народа. Чехов говорил, что о Сократе легче писать, чем о барышне или кухарке. Опыт показывает, что легче писать и об академиках-селекционерах, о секретарях райкома, о главных агрономах и директорах МТС, чем об Иванах Денисовичах и тетках Матренах. В годы культа личности многие литераторы привыкли больше интересоваться тем, что происходит в комнате правления колхоза, чем под всеми остальными крышами деревенских изб. Не оттого ли изображение Солженицыным героя рядового, обыкновенного воспринимается критиком как опасная новизна?
Спору нет, для советской литературы, как ни для какой другой, важна тема руководителей, организаторов и вдохновителей. Однако, если исходить из марксистско-ленинского взгляда на вещи, эта тема по меньшей мере неполна без изображения людей руководимых и организуемых, людей самых обыкновенных, несущих ношу каждодневного труда, составляющих, по выражению Ленина, «самую толщу широких трудящихся масс». Так что ирония по поводу «рядового», обыкновенного человека тут ни к чему.
«Рядовой» герой Солженицына кажется Н. Сергованцеву беззаконно пробравшимся в литературу, и он старается возможно гуще очернить его, чтобы отказать ему в народности. Если подытожить кратко суждения критика о Шухове, то они сводятся к тому, что, во-первых, Иван Денисович примирился, приспособился в лагере, утерял человеческие черты; во-вторых, что животные интересы целиком подчинили его себе и не оставили места для сознательного, духовного; в-третьих, что он трагически одинок, разобщен с другими людьми и едва ли не враждебен им.
Такое толкование повести не должно удивлять, поскольку Н. Сергованцев, верный приемам нормативной критики, рассуждает как бы вне и вопреки тексту книги. Следя за его рассуждениями, в которых странное раздражение и демагогический пафос в избытке возмещают логику, начинаешь думать даже, что он перепутал и прочитал по ошибке другую вещь, а не ту, что написана Солженицыным и называется «Один день Ивана Денисовича».
Ведь в этой повести о Шухове и его судьбе говорится совсем иначе.
3
О прошлом Ивана Денисовича знаем мы мало, но и того, что знаем, достаточно, чтобы понять, каков он есть человек. Жил Шухов до войны в маленькой деревне Темгенево, работал в колхозе, кормил семью – жену и двух дочек. Началась война – на войну пошел и воевал честно: был ранен на реке Ловать, ему бы в медсанбат, а он «доброй волею в строй вернулся». Потом армию окружили, многие попали в плен, но Шухов из плена бежал и по болотам да по лесам к своим выбрался. А тут обвинили его в измене: мол, задание немецкой разведки выполнял. «Какое ж задание – ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто – задание».
Сказано это со спокойным и горьким юмором, но, признаться, от юмора такого – мурашки по коже. Словно сидят они со следователем рядком и беседуют дружелюбно, как дело обставить поудобнее, что Шухов-де родине изменил, за которую кровь пошел проливать и столько вытерпел. В самом же деле знал Шухов, что, если не подпишешь, – расстреляют, и хотя можно представить себе, что он в те минуты пережил, как внутри горевал, удивлялся, протестовал, но после долгих лет лагеря он мог вспомнить об этом лишь со слабой усмешкой: на то, чтоб всякий раз возмущаться и удивляться, не хватило бы никаких сил человеческих.
Умирать ни за что ни про что было глупо, бессмысленно, противоестественно. Шухов выбрал жизнь – хоть лагерную, скудную, мучительную, но жизнь, и тут задачей его стало не просто выжить как-нибудь, любой ценой выжить, но вынести это испытание судьбы так, чтобы за себя не было совестно, чтобы сохранить уважение к себе. Может быть, Иван Денисович и не рассуждал так заранее, даже наверное не рассуждал, но сердцем именно так чувствовал и руководился этим чувством.
Упрекают Ивана Денисовича в том, что он будто бы примирился с лагерем, «приспособился» к нему. Но не то же ли это самое, что упрекать больного за его болезнь, несчастного за его несчастье! Конечно, опыт восьми лет каторги в Усть-Ижме и Особлаге не прошел для Шухова даром, он выработал в себе некоторые внешние реакции, которые тут есть как бы условие существования: соблюдай лагерный режим, поклонись надзирателю, не пускайся в препирательства с конвоем – ведь «качать права» перед Волковым не только опасно, но и бессмысленно. И можно лишь удивляться, в какой целостности остаются при этом основные его нравственные понятия, как мало поступается он своей гордостью, совестью, честью. Его житейская мудрость и практическая сметка, лукавство и знание, что чего стоит, – эти свойства, которые в крови у русского крестьянина и рождены опытом не одного дня, сохраняют в Шухове силу жизненности, помогающую ему перенести тяжелейшие страдания и остаться человеком.
И ведь это при том, что такое большое, порой всепоглощающее, значение имеют для Ивана Денисовича в лагере две заботы – не ослабеть от голода и не замерзнуть. В условиях, чем-то схожих с изначальной борьбой за существование, заново обнаруживается ценность простейших «материальных» элементов жизни, того, что всегда и бесспорно необходимо человеку, – еды, одежды, обуви, крыши над головой. Лишняя пайка хлеба становится предметом высокой поэзии. Новым ботинкам Ивана Денисовича автор слагает целую оду: «…в октябре получил Шухов (а почему получил – с помбригадиром вместе в каптерку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели – житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок – чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навылет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берег, солидолом умягчал, ботинки новехонькие, ах! – ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинок».
И с той же доброй крестьянской обстоятельностью и даже с ноткой нежности говорится о табаке, который продает латыш: «Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой». И о каше: «…ложкою обтронул кашу с краев. Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, аккуратно в рот класть и во рту языком переминать».
Еду автор описывает особенно подробно, основательно, можно даже сказать – любовно, потому что это желанная, поэтическая минута в жизни лагерника: ведь он живет здесь «для себя». «Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Так что, как ни странно это прозвучит, за едой он больше всего чувствует себя личностью, человеком, который над собою волен. Тут уж его интерес, его право распоряжаться собой.
Важно и другое. Лишняя пайка хлеба, которой так дорожит Иван Денисович и о которой так много думает, – не просто поддержка и утеха для вечно ноющего желудка, но и средство независимости от начальства, «кума», богатого лагерника, первое условие внутренней самостоятельности. Пока сыт и силы еще есть для работы – и в голову не придет унижаться, выпрашивать, «шестерить». Шухов всегда рад разжиться хлебом, добыть табачку, но добыть не как «шакал» Фетюков, рыскающий по тарелкам и униженно засматривающий в глаза, а так добыть, чтобы не уронить себя, соблюсти свое достоинство.
Солженицын очень тонко и последовательно отмечает эту связь материальной, так сказать, и нравственной стороны дела. Шухову на всю жизнь запомнились слова первого его бригадира, старого лагерного волка Куземина: «В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». Эти три выхода ищут для себя нравственно слабые люди, их-то и ждет, в самом деле, позорное приспособление. Слова Куземина верны уже в том прямом и простом смысле, что, выбирая легкое, человек теряет сопротивляемость, и это часто приводит к физической гибели. Но еще важнее и безусловнее тут некий нравственный закон: Куземин предупреждает против гибели моральной. Здоровая народная нравственность запрещает такое самоунижение, как миски лизать, – человек не должен превращаться в животное, не должен терять чувство достоинства. То же и с санчастью. Начнешь надеяться на болезнь – глядишь, и совсем расклеился, раскис… Я уж не говорю о третьем – кто ходит к «куму», оперуполномоченному, «стучать»: тот вовсе погибший человек, хоть в обыденном смысле его судьба может сложиться благополучно. «Насчет кума – это, конечно, он загнул, – поправляет Куземина Иван Денисович. – Те-то себя сберегают. Только береженье их – на чужой крови».