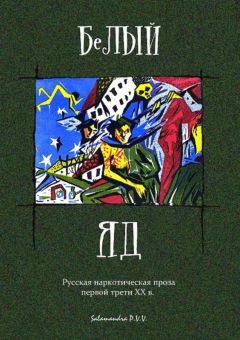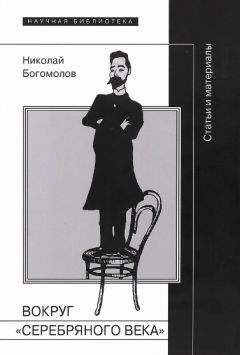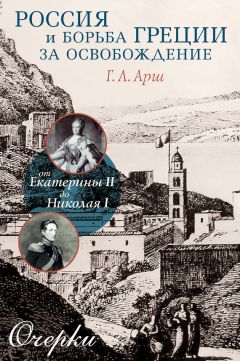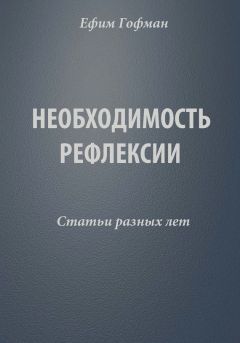Николай Богомолов - Русская литература первой трети XX века
«Ночь» раскрывается записанными под ней в строчку словами: «фениче, Лагуна или Сибилла, Судьба». Чуть ниже: «S<an> Ciov<anni>». Впрочем, не лишено вероятия, что «Сибилла. Судьба» и «S.Giov.» не относятся к данному пункту: эти слова расположены рядом со столбиками-пояснениями к «утру», и лишь достаточно нечетко расставленные стрелки позволяют определить связь этих слов.
Достоверно раскрыть предполагаемое содержание этой части стихотворения вряд ли представляется возможным; поясним лишь, что «Фениче» — старинный венецианский театр. Впрочем, рискнем высказать осторожное предположение: нет ли здесь связи со вторым и третьим стихотворениями из блоковского цикла «Венеция»? Тогда «лагуна» может отталкиваться от блоковского «Холодный ветер от лагуны...» и: «Уж ты мечтаешь <...> / Меня от ветра, от лагуны / Священной шалью оградить», а «Сибилла» может восходить к теме испытания своей грядущей судьбы, «жизни будущей» в третьем стихотворении цикла. Если такое допущение верно, то и «S.Giov.» (Иоанн Креститель) проецируется на: «Таясь, проходит Саломея / С моей кровавой головой». Впрочем, повторимся, что данный ход мысли может быть ложным, и на самом деле Ходасевич ничего подобного в виду не имел.
Последующее развертывание сюжета намеченного стихотворения вновь возвращает нас к авторскому «я». Изображение Венеции вновь переходит в описание собственного состояния: «Теперь нашел бы другое. Стариком, б<ыть> м<ожет>, найду третье (или вновь?)». Следующая строка словно отвечает на приведенные выше размышления Н. Берберовой задолго до того, как они были высказаны: «Сердце там с тобой навек. (Туф<ельки> Урсулы...)». Непосредственную связь «туфелек Урсулы» с предыдущим понять трудно, но само это сочетание и его ближайший контекст легко определить из «Интриги бирж, потуги наций...»:
И беззаботно так уснула,
Поставив туфельки рядком,
Неомрачимая Урсула
У Алинари за стеклом.
Комментаторы поясняют, что Алинари — известная фирма художественных репродукций, а содержание картины, которую имеет в виду Ходасевич, описывают так: «Картина изображает спящую святую (Урсулу. — Н.Б.), ее корону и собачку, а также туфли возле кровати; на нее падает свет из открытой двери, в которой стоит ангел, возвещающий ее мученическую кончину»[1087] .Можно полагать, однако, что на сюжет интересующего нас замысла проецируется не только данная строфа, но и все содержание стихотворения, завершающегося описанием конца света. Примеров такого рода в черновиках Ходасевича не так уж мало. Начиная стихотворение, он уже видит, чем оно завершится, образы и словесное их выражение временами кажутся сформулированными заранее.
Строка черновика: «Там я был» является, скорее всего, простым переходом к следующей, которую снова нужно вписать в контекст всего творчества Ходасевича: «Умру — (м<ожет> б<ыть>) буду незрим<ым> Виргилием для буд<ущего> поэта». В памяти прежде всего всплывает аналогия с завершающей строфой из стихотворения «Перед зеркалом»:
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество —
в раме Говорящего правду стекла.
Но тут ощущается подтекст и гораздо менее заметный, но опять-таки связанный с Е.В. Муратовой и итальянской поездкой 1911 года, а также с темой будущего поэта, наследника стихов и судьбы. В черновом наброске, обращаясь к своей «царевне» (так в книге «Счастливый домик» поэт обращается к Муратовой), Ходасевич писал:
Увы! Стареем, добрый друг,
Уж мир не тот, и мы другие,
И невозможно вспомнить вслух
Про ночи звездной Лигурии.
А между тем в каморке тесной,
Быть может, в этот час ночной
Читает юноша безвестный
Стихи, внушенные тобой.
Продолжим чтение нашего черновика: «(Зде<сь> я был, страдал.) А за мной умрешь и ты. Не (жалкой) скромной смертью. Пенорожд<енная> — в воду. «Разломится тысячелетний город». Есть мудрость в разрушении. Вода, вода, вода».
Гибель Венеции под морскими волнами здесь воспринята не только как выражение полностью развитой в стихотворении «Дом» мысли: «Есть мудрость в разрушении», — но и как всемирная катастрофа («не скромной смертью»), связанная, вероятно, с тем, что Венеция для поэта не просто город, а символ потаенной красоты. Ведь «пенорожденная» — постоянное определение Венеры-Афродиты. И потому смерть Венеции должна быть противопоставлена позднее высказанному в том же «Доме»:
Чертоги ли великого Рамсеса,
Поденщика ль безвестного лачуга —
Для странника равны они: все той же
Он песенкою времени утешен;
Ряды ль колонн торжественных иль дыры
Дверей вчерашних — путника все так же
Из пустоты одной ведут они в другую
Такую же...
Следующая фраза: «Кругом новый человек...» выводит нас на проблематику, которая была для Ходасевича весьма важна. Его стихотворение «Памятник» (1928) и другие размышления о судьбе собственной поэзии в будущих поколениях были неотрывны от прочих задач творчества. Очевидно, что исчезновение Венеции тут связывается с возникновением нового человека, уже не знающего и не понимающего той красоты и многоликой жизни, которые для поэта свидетельствовали бессмертие все вмещающего города. Думается, не будет большой натяжкой вспомнить и статью Ходасевича «Колеблемый треножник», где с тревогой говорилось о появлении нового человека, для которого культура пушкинского времени (такого же вечного и прекрасного, как Венеция) становится уже абсолютно чуждой.
Последняя строка плана, как нам представляется, вполне могла бы стать действительным завершением стихотворения: «Но над тобой... Днем[1088] — солнце зиждительное освещающее рядом. Ночью — вершители разд<у>мий — звезды». Солнце и звезды в большинстве белых стихов Ходасевича являются теми символами, которые перемещаются из одного стихотворения в другое, обозначая переход из мира дневного, повседневного — в мир ночной, новый, родной для поэта, где все окружающее преображается, становясь иной реальностью, где место самого поэта занимает Орфей, место жалкой домашней утвари — «гладкие черные скалы», «подземное пламя» и «текучие звезды» (из стихотворения «Баллада» 1921 года, где есть характерное «солнце в шестнадцать свечей»).
Таким образом, Венеция, как она должна была быть изображена в задуманном и достаточно проработанном, но так и не осуществившемся стихотворении, видимо, представала пересечением двух параллельных миров, для которых связующим звеном оказывается поэт, заключающий в себе «всю мудрость о земле» (что, конечно, вовсе не исключает самоиронии). В стихотворении «Без слов» Ходасевич определяет свое существование — конечно, не как частного человека, а как поэта — через сравнение с нитью, тянущейся за Божьими перстами, «то в жизнь, то в смерть перебегая». Вот эта судьба поэта определяет и жизнь его творений, которые обретают бессмертие, лишь нерушимо связывая человеческое и Божеское, временное и вечное. Можно предположить, не рискуя особенно ошибиться, что в конце стихотворения должно было возникнуть какое-то описание, подобное следующим строкам из «Обезьяны»:
И мнилось — хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни...
План венецианского стихотворения, и сам по себе весьма значительный, в то же время предстает как модель мира всей поэзии Ходасевича, объединяет произведения, написанные ранее, с теми, которым еще только предстоит быть созданными; сливает воедино целые словесные и образные комплексы, разрабатывающиеся внешне почти независимо друг от друга, но оказывающиеся на самом деле теснейшим образом связанными. Место отдельного стихотворения становится понятным только в контексте лирического цикла (пусть даже формально не выраженного), книги стихов и — максимально широко — всего поэтического творчества, стремящегося создать целостную и внутренне непротиворечивую картину мира, где отдельные элементы могут быть, конечно, перемещены, но всегда это перемещение отвечает неким задачам, раз и навсегда выработанным поэтическим сознанием.
О двадцатых-тридцатых годах
Статья первая — Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. М.; Рига, 1995 —1996 / Тыняновские сборники. Вып. 9; Статья вторая — Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992; статья третья — Терентьевский сборник / Под общей ред. Сергея Кудрявцева. М., 1996.