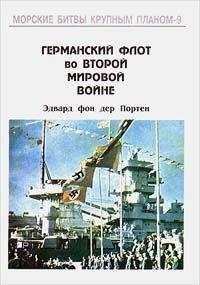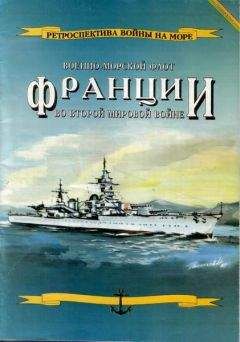Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень
И тут нельзя не вспомнить Евангельское «иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости…» Мост между Афинами и Иерусалимом, созданный за два тысячелетия христианской мысли, вновь оборачивается пропастью. Тем не менее, у него свое собственное исповедание веры: разрывая Афины и Иерусалим, между Ветхим и Новым Заветом Шестов не видит принципиального различия. В письме к Сергею Булгакову он выразил свою веру с определенностью, которая не требует комментариев: «По-моему, сейчас нужны величайшие усилия духа, чтобы освободиться от кошмара безбожия и неверия, овладевшего человечеством. Для меня противоположности между Ветхим и Новым Заветом всегда казались мнимыми. Когда Христа спросили (Марк. 12, 29), какая первая из всех заповедей, Он ответил: “слушай, Израиль” и т. д., и в Апокалипсисе (2, 7): “Побеждающему дам вкушать от древа жизни”. “Знание” преодолевается, откровенная истина – “Господь Бог Наш есть Бог единый” – в обоих Заветах возвещается эта благая весть, которая одна только и дает силы глядеть в глаза ужасам жизни».[72]
Потерянный Рай
Я – не отсюда. Воплощенный изгнанник, я везде чужой – не принадлежу ничему на свете. Каждую минуту я одержим одним: потерянным Раем.
Эмиль ЧоранТоска по утраченному Раю пронизывает большую часть шестовских текстов. Он постоянно говорит о древе жизни, жизни другой, райской, блаженной, но напрасно мы бы стали искать эту жизнь в его сочинениях. В статье «Памяти Гершензона» – историка, своего друга – Шестов цитирует характерный фрагмент:
«В последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей, – пишет М. О. Гершензон Вячеславу Иванову. – Это чувство давно мутило мне душу подчас, но не надолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется: какое бы счастье кинутся в Лету, чтобы бесследно смылась с души память обо всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно – как было тяжело и душно в тех одеждах, и как легко без них».[73]
Ситуация XX столетия: если человек эпохи Просвещения бежал от «тьмы незнания» к «свету умозрения», то человек нашего времени бежит назад от «света» к «тьме», ибо свет стал тьмой, тьма – светом. Поэтому религиозная мысль в лице Льва Шестова так упорно твердит о Рае, но что можно сказать о нем, как можно его описать? Как можно поведать о том, что непередаваемо и невыразимо?.. Мы постоянно чувствуем, что мыслитель не может выразить того, что хочет. Его мысль ходит кругами, спиралями, существуя лишь в виде цепочки бесконечных отрицаний. Он «странствует по душам» путем полной, абсолютной апофатики, повторяя вновь и вновь о том, что не есть подлинное бытие, но что оно есть, мы знать не можем. Как философ, существуя всецело внутри умозрения, внутри многовековой философской традиции, он стремится сбросить с себя «душные одежды», все время говорит о другом – другом мире, другом измерении сознания, о прорыве к другому, но вырваться ему не дано, ибо другое – это конец философии, а Шестов всецело внутри нее. Как это ни странно звучит, но именно он, как никто, отравлен «ядом умозрения», причем отравлен совершенно безнадежно. Когда он беспрестанно твердит «о страшной власти чистого разума», мы чувствуем, что эти слова обращены не во вне, а внутрь – к себе самому. Он борется сам с собой и с собой ведет бесконечную тяжбу. При внимательном чтении замечаешь: непримиримый противник закона противоречия нечасто позволяет себе его нарушать. Шестов в этом смысле совсем не «иррационалист», против рационализма он сражается его же оружием. Логика Шестова, в самом деле, подобна ударам молота, которыми он разбивает одну статую за другой. В конце концов, он становится жертвой собственного апофатического мышления: беспрестанно отрицая и разрушая с помощью своего изощренного разума, углубляя и оттачивая его с каждой новой книгой, он сам оказывается в его власти.
В одной из статей Шестов вспоминает евангельскую притчу о двух сыновьях: один сказал «пойду» и не пошел, другой – «не пойду» и пошел. Всю жизнь Шестов посвятил обоснованию необходимости «идти» и… не шел, вернее, доходил до края, и останавливался… Кажется, сделай еще один шаг, он навсегда оставил бы философию и закончил бы аскезой, молчанием и молитвой. Более всего на свете он любил и цитировал Библию, но, как давно замечено, «из Библии он берет лишь то, что нужно для его темы». Шестов совсем «не библейский человек, он человек конца XIX начала XX века. Ницше ему ближе Библии и остается главным влиянием его жизни. Он делает библейскую транскрипцию ницшеанской темы, ницшеанской борьбы с Сократом, с разумом и моралью во имя жизни».[74]
По иронии судьбы Шестов застрял где-то между «Афинами и Иерусалимом», но это же оказалось и его преимуществом. С одной стороны, плод, однажды вкушенный с древа познания, стал роковым для него самого, а то универсальное сомнение, о котором он писал в своих ранних книгах, сыграло с ним злую шутку: внутренний метафизический скептицизм остался непреодолимым. Но с другой – только внеконфессиональный одиночка, как Шестов, мог обладать такой степенью внутренней свободы и без оглядки на кого-либо продолжать свои вопрошания. Любопытный парадокс: вольнодумец и еретик, с точки зрения любой христианской ортодоксии, Бердяев в отношении к Шестову выступает как вероучитель, упрекая его в неверии: «Я думаю, что статично и бездвижно неверие и скептицизм. Я вижу “выход” (против чего ты больше всего восстаешь), потому что я верующий христианин и до конца всерьез беру свою веру. “Выход” и есть движение, безвыходность же есть кружение… И ты, и Шлецер (друг и переводчик Шестова – Я. К.), и все люди вашего духа восстаете против всякого, кто признает положительный смысл жизни. Но ведь признавать положительный смысл жизни и есть признак всякой религии. И напрасно вы думаете, что состояние верующего не трагично, а трагично лишь состояние неверующего. Как раз наоборот. Верующий большим рискует. Верующий рискует проиграть вечную жизнь, неверующий рискует только проиграть несколько десятилетий, что не так уж трагично и страшно».[75]
Я не собираюсь быть арбитром в их долгом споре, но несомненно одно – значительная доля истины в этих словах Бердяева есть.[76]
Борьба с тяготением: Шестов, Малевич, Хармс и другие
Все, о чем постоянно твердил Шестов, было нелепо и абсурдно со всех точек зрения: философии, науки и здравого смысла. Грубо говоря, всю жизнь он пытался показать, что дважды два может быть равно не четырем, а пяти или шестнадцати, и брошенный предмет не обязательно упадет на землю, а бывшее однажды может стать совсем не бывшим. В этом он удивительным образом совпадает с исканиями своих современников – русского живописного и литературного авангарда – от Малевича и Хлебникова до Хармса и обэриутов, о которых он, возможно, и слышал краем уха, но никогда не обращал внимания. Параллельно Шестову в русской культуре шла та же самая «борьба с очевидностями» – «борьба с тяготением» (выражение К. Петрова-Водкина). «Заумный реализм» Малевича, абсурдистский алогизм и трагический смех Хармса – схожие попытки вырваться из-под власти необходимости, формальной логики, причинно-следственных связей и создать пространство свободы, где не действуют природные закономерности и бессильно всепожирающее время. Шестов боролся с принудительной властью идей, Хармс каждый день выходил на «борьбу со смыслами», а Малевич создавал пластическую систему, в которой должна быть уничтожена власть земного тяготения.[77] Но «своя своих не познаша»: слишком различными были традиции, стиль мышления, язык, среда. Пожалуй, единственной фигурой, хоть как-то соединявшей Шестова с русским авангардом, был полубезумный библиотекарь, автор «Философии общего дела» Николай Федоров (1828–1903), почитателями которого были Малевич, Хармс и Хлебников, и которым интересовался Шестов, написавший в конце жизни о нем специальную статью. «Антифилософ» Шестов воевал с ветряными мельницами мировой философии, а «антихудожники» русского авангарда – с тиранией предметной реальности, с принудительностью человеческого рассудка и языка. Абсурд и противоречия – их главное оружие, но если художнику постоянно противоречить себе вполне естественно, то для философа это непозволительно.
А весь Шестов – в своем роде художник среди философов – в борьбе с самим собой, в своих внутренних противоречиях. Чем Шестов занимался всю жизнь? – Познанием, которое стало для него проклятием. Кого читал, кого цитировал более всего? – Философов от Парменида до Гуссерля, которым он объявил непримиримую войну. Кого он хотел защитить? – Слабого, несчастного, погибающего человека, преобразить его и привести к Богу. Но человек оказался разрушен: меж человеческим и божественным разверзлась зияющая бездна. Меня всегда удивляло то, что Шестова вообще услышали: чаще всего такие голоса, противоречащие себе и говорящие наперекор всему и вся, исчезают бесследно во тьме где-то на задворках истории. И тем не менее, его голос стали воспринимать, с помощью бесконечных повторений ему удалось заставить себя услышать – если не философов, то просто думающих людей. XIX век не заметил Киркегора, XX век заставил мир услышать и Киркегора, и Шестова. Писавшему об одиночестве, отчаянии, боли и ужасах жизни, задававшему бессмысленные вопросы, ему удалось выразить себя вопреки всему, он каким-то чудом вошел в резонанс со столетием и в результате – как ни странно это может прозвучать – оказался писателем с вполне счастливой и осуществившейся судьбой.