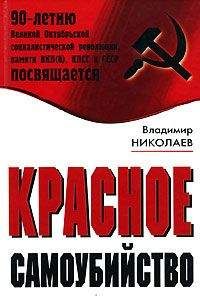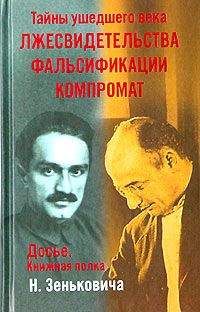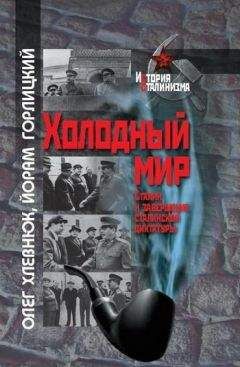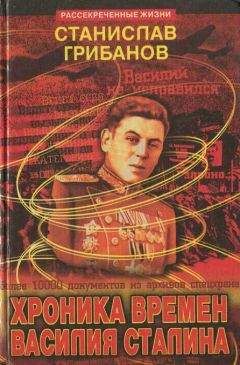Илья Габай - Письма из заключения (1970–1972)
Поэтому, Марик, меня обескуражило, что ты принял мои слова о ваших материальных бедствиях за иронию. Я не помню их, разумеется, в контексте, но ручаюсь, что они были писаны всерьез. Ты же помнишь, что я тоже всю почти жизнь крутился в поисках хлеба насущного (отчасти по своей великой безалаберности), и почему я вам должен желать того же – это при двух-то малышах – ума не приложу. И вряд ли уместен в наших с тобой отношениях подсчет степеней пережитого. Упаси бог когда-нибудь заняться этим. Если я когда-нибудь это и сделаю, то в подлую, пьяную и похабную минутку. Посему еще раз настойчиво желаю вам всем не ощущать слишком острых материальных бедствий.
Интересует меня все: и информация, и мнение. С Нового года, глядишь, пойдет веселее: в связи с подпиской можно будет кое о чем говорить на равных. А пока ставь меня в известность, как ты и делаешь, не заботясь ни о каких несуразностях, настоятельно тебя прошу. Я уверен, что ты справишься со статьей Белля. Она ведь для тебя не столько кусок хлеба, сколько нужная работа, верно? Ну, а то, что ты попал в лабиринтную ситуацию с ней – это ведь бывает не только с иноязычными текстами. Не пробовал ли ты обращаться к Ц.И. Кин[49]? Я ее, правда, знал недолго, но помню о ней светло – как об очень доброжелательном человеке, во всяком случае. Ну, а к Мише[50]?
То, что ты пишешь о западных немцах и их сетованиях о зажиревшем пролетариате (как я уловил по твоему письму – опять же без контекста), по-моему, не так уж смешно. Весь Запад прошел через «Хлеб ранних лет» и неореализм к изображению современного благополучного кризиса совести. Об этом ведь и фильмы Феллини, Джерми – что хочешь. Это одна из путанейших ситуаций. Во времена диккенсовские, например, для честного человека была ясна исходная точка: неприемлемость сосуществования (скажем условно, плакатно) дворцов и трущоб. Ну, а сейчас куда сложнее. Буржуазность – это ведь не преходящее – жирноватое, цивилизованное, но в основе купеческое качество, – и когда это становится обликом не класса, а общества, моралью, правосознанием, – ясное дело, люди вопят. И здесь невозможно без крена, разумеется. Его объяснил лет 6 назад в средненьком романе то ли Пратолини, то ли Пазолини, – помнишь роман о молодом рабочем-коммунисте, с объяснением увлеченностью капитализмом. И китайское увлечение бунтарей-студентов тоже, поди, этим объясняется: надоела сейчас буржуазность. А разрушь – будут ее возводить снова, ведь невозможно же и материально прозябать. Вот кружись. Ты помнишь финнок на Усачевке[51]? Они были влюблены в наши общежитейские отношения: как я сейчас понимаю, при всей их праздности и атмосфере русского трепа, в них не было все той же буржуазности. Словом, я сел на своего конька, а м.б. западные немцы совсем не о том пишут.
Отвечу тебе еще на один вопрос, Марик: трезво говоря, может быть, и раз в полгода не сможем увидеться. Мне же надо будет где-то жить и работать, в Москве это будет трудно. Но друг друга мы не потеряем, друзья мои, в этом я уверен. С тем и прощаюсь и нежно обнимаю все ваше обширное семейство.
Илья.
Галине Габай
30.10.70
‹…› Я вообще отношусь как к сказочному счастью к знакомству со своими друзьями. Несколько специфический, но все же немалый опыт этих полутора лет подтвердил, что за пределами нашего микромира не существует не только культуры – обыкновенной доброты и порядочности в отношениях[52].
Белле Исааковне Шлифштейн
22.10.70
Дорогая Белла Исааковна!
Вы, конечно же, пунктуальны, верны и точны. Ваше письмо пришло позавчера, и если бы на следующий день не пришли письма от Лени и Аллочки, – не миновать бы какому-нибудь антипедагогическому выпаду с моей стороны.
«Аннушка, – написал бы я, например, – я твоих родителей, можно сказать, на руках таскал (ты себе можешь представить, Аннушка, каков подвиг: таскать на руках твоего папу. Видит бог, что он всегда был скорее Санчо и Ламме Гудзак, чем наоборот). Я их поставил на ноги (ты себе можешь представить, Аннушка, что это такое – ставить на ноги людей, вечно спотыкающихся в простейших вопросах синтенбаллтонколобомонтороноронтетики). И вот – черная неблагодарность. Самая черная. Как бархат у Станиславского. Уж лучше бы, Аннушка, ты была не Леонидовной, а кем-нибудь еще. И какое лицемерие говорить после этого о Феллини, потоке сознания и премьере Детского театра. Какое ханжество! И эти люди смеют трепать светлые имена Шатобриана и Розова!»
Так я себя настроил, Белла Исааковна, и знаете, на следующий день, получив письмо от Ваших детей, испытал даже легкое разочарование: кого я буду теперь бранить в сердце своем? (Это, по-моему, звучит так же патетически, как «Кому повем печаль свою?») О чем я буду теперь писать Анне? (Интимных писем я ей больше писать не стану: Вы их все равно прочитываете.)
Ну, а говоря всерьез, я очень рад был прочесть Ваши письма. А посему, здравствуйте также и Леня с Аллочкой и не сердитесь на меня за всю гиль, вышеизложенную во первых строках моего письма.
Белла Исааковна! Скорей бы прошли эти 21 месяц. Пригубим мы с Вами по старой привычке рюмку-другую-третью-четвертую (останавливаюсь: я еще не разучился считать до десяти тысяч двухсот двадцати трех), вспомним славные годы второй пятилетки, строительные леса, к которым я всегда чувствовал и чувствую гораздо большее влечение, чем, скажем, к сосновым, поговорим о последнем выступлении Маяковского – все будет хорошо, все будет о-очень хорошо, только Вы не болейте и не грустите.
К Лене я просто боюсь подступиться: итальянские курсы кройки и шитья – это как раз и есть не взятая мною в бою высота[53]. Я застрял где-то на болгарских азах, и то дальше болгарского креста не пошел.
Что касается Аллочки, то она не права в вопросе об ударении на слове «судно». Может быть, неизвестный мне поэт вкладывал совсем другой смысл? Впрочем, я и в этом (особом) случае в ударении не уверен.
Каковы перемещения в Министерстве – а, Леня? Кто бы мог подумать? Впрочем, Тодор и его карьера от меня так же далеки (мысленно), как проблемы существования Атлантиды.
Главное, чтобы все были здоровы и благополучны и регулярно помнили меня. Регулярно – это значит часто посылать на кемеровский адрес исходящую почту, не очень обращая внимание на входящую. Ведь, хотя мыслители прошлого от Л. Толстого до А. Толстого и убедили меня в благости физического труда, они не отучили меня от элементарного утомления время от времени.
А кроме писем, я занят изучением отрывков из «Вед» и надеждой воплотить когда-нибудь в жизнь стиховые наброски Ташкента[54]. Но и то и другое через силу (пока) – надо войти в колею («Надо трудиться», – как говорил Тузенбах).
Я дочел трудную (в таких – сжатых по времени – условиях) книгу Данэли «Еретики и герои». Сквозная идея ее – такая же, как у давнего и приснопамятного стих<отворения> «Посвящается»[55]. Значит, стихотворение было не ахти: идея-то плыла на поверхности.
А вопрос, брошенный когда-то Леней Зиманом человечеству: «Похож ли, товарищи, Соленый на Лермонтова?» – так и остался неразрешенным. Как и вопрос о том, были ли свифтовские огурцы солеными.
Нежно с вами со всеми прощаюсь. Надеюсь, что вам будет хорошо житься, читаться, работаться (а Аллочке – и учиться?), а моей любимице – Мадонне с колготками – растеть-матереть.
Целую вас всех, приветствую всех друзей вашего гостеприимного дома (который я ношу в сердце своем).
Ваш Илья.
Герцену Копылову
7.11.70
Добрый день, Гера!
Я подзадержался несколько дней с ответом, а сейчас праздничные дни – так что письмо ты получишь не скоро. Очень тебя прошу: не бери ты с меня пример и пиши всегда, когда пишется. У тебя все-таки не все дни заняты службой и, по-моему разумению, лучший отдых между формулами – сделать доброе дело: написать письмо.
Надо бы, в подражание тебе, поговорить о погоде, но она у нас здесь всякая, капризная, и главное – впереди. Почитал в последней Литературке интервью с Андреем Тарковским, как он снимает «Солярис», и чувствую, к «Началу» и «В огне брода нет», о которых мне пишут буквально все, скоро прибавится еще один не увиденный мной интересный фильм. Кстати, читал ли ты публицистическую книгу Лема? Я ее в свое время пропустил (как и его статью о докторе Фаустусе) и очень об этом сожалею.
В том же номере Шукшин пишет о том, как он будет снимать «Разина». Кажется, это будет опять что-то почвенное и традиционное – то есть при всем таланте малоплодотворное. В Лефортово мне попалась забавная книга голландского путешественника XVII века Яна Стройса; он пишет о Разине (которого видел) с ужасом и содроганием; даже как персидскую княжну бросали в набежавшую волну, он видел самолично. Это уже другая сторона медали, другая крайность.