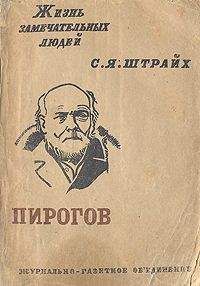Энн Эпплбаум - ГУЛАГ. Паутина Большого террора
Заявление на первый взгляд кажется странным: ведь принудительный труд с 1918 года был в Советской России признанным средством наказания. Его можно понять, если проследить за развитием представлений о принудительном труде на самих Соловках. Ибо хотя заключенные там трудились, их труд поначалу не был организован ни в какую «систему». Нет указаний и на то, что он приносил значимый доход.
Прежде всего, одна из двух главных категорий соловецких заключенных поначалу не трудилась вовсе. Это были примерно 300 «политических» из социалистов, которых начали привозить в июне 1923-го. Переведенные из Пертоминска, а также из Бутырок и других тюрем Москвы и Петрограда, они были сразу же размещены в Савватиевском скиту в нескольких километрах от главного монастырского комплекса. Теперь надзиратели могли быть уверены, что социалисты изолированы от других заключенных и не заразят их склонностью к голодовкам и другим формам протеста.
Первое время социалисты пользовались привилегиями политических заключенных, которых они так долго добивались. У них были газеты и книги, была свобода перемещения на территории, огороженной колючей проволокой, и их не заставляли работать. Каждая из главных политических группировок — левые и правые эсеры, анархисты, социал-демократы, а позднее и социалисты-сионисты — выбрала старосту и заняла свою часть монастырской гостиницы, которая по мнению Екатерины Олицкой, молодой левой эсерки, арестованной в 1924-м, «ничем не походила на тюрьму».[114] После месяцев в мрачной камере на Лубянке Олицкая была поражена. Вот как она описывает женскую эсеровскую камеру: «Светлая, чистая, свежепобеленная, с двумя большими, настежь открытыми окнами, выходящими на озеро, камера была полна света и воздуха. Конечно, никаких решеток. Посреди камеры стоял небольшой, покрытый белой скатертью стол. Вдоль стен четыре топчана, аккуратно застеленные постели. У каждой по маленькому столику. На них — книги, тетради, чернильница».
«Мы хотим жить по-человечески», — объяснили Олицкой сокамерницы, разливая чай в чашки с блюдцами и ложечками и ставя на стол вазочку с сахарным песком.[115] Новоприбывшая вскоре узнала, что хотя соловецкие «политические» болели туберкулезом и другими болезнями и жили впроголодь, они имели возможность самостоятельно организовать свой быт. Выбранные завхозы ведали хранением, приготовлением и раздачей пищи. Благодаря своему особому «политическому» статусу заключенные могли получать продуктовые посылки не только от родственников, но и от Политического Красного Креста. Хотя эта организация начала испытывать трудности (в 1922-м на ее помещение был совершен налет и ее имущество было конфисковано), ее руководителю Екатерине Пешковой, обладавшей большими связями, все еще дозволялось оказывать политзаключенным помощь. В 1923 году она отправила в Савватиевский скит целый вагон продовольствия. В октябре того же года она послала на Север одежду.[116]
Так до поры до времени решалась проблема «политических»: им давали некоторые поблажки, но их постарались упечь так далеко, как только возможно. Впрочем, это решение устраивало власти недолго: советская система не терпела исключений. В любом случае возникавшие у социалистов иллюзии быстро рассеивались: на Соловках содержалась и другая, куда более многочисленная группа заключенных. «Ступив на соловецкую землю, мы все почувствовали, что у нас начинается новая, странная жизнь, — писал один из „политических“. — Из разговоров с уголовниками мы узнали об ужасающем режиме, который ввело для них начальство…»[117].[118]
Куда более деловито и бесцеремонно, и притом очень быстро, власти заполняли главные помещения Соловецкого кремля не столь привилегированными заключенными. От нескольких сотен в 1923-м их число к 1925 году выросло до 6000.[119] Среди них были белогвардейские офицеры и сочувствующие белым, «спекулянты», дворяне, матросы, участвовавшие в Кронштадтском восстании, и обычные преступники. Этим категориям заключенных вряд ли доставался чай в фарфоровых чашках и сахар в вазочках. Точнее — кому-то доставался, кому-то нет, поскольку главным, что характеризовало жизнь в «общих» камерах СЛОН в те ранние годы, была иррацинальность и непредсказуемость с самого момента прибытия. В первый лагерный день, пишет в мемуарах бывший заключенный Борис Ширяев, партию новоприбывших «приветственной речью» встретил первый начальник Соловецкого лагеря Ногтев: «Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах — изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям). То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас — свой закон».[120]
В последующие дни и недели большая часть заключенных на своей шкуре испытывала эту «власть соловецкую», которая была смесью преступного пренебрежения и бессистемного насилия. Условия жизни в бывших церквах и монастырских кельях были тяжелыми, и администрация ничего не делала для их улучшения. В первый вечер на Соловках, вспоминал писатель Олег Волков, ему дали место на сплошных нарах, представлявших собой длинные дощатые настилы, на которых люди лежали в ряд.[121] Едва он лег, на него набросились клопы, которые ползли по стойкам нар «сплошными вереницами, как муравьи». Он не мог спать и вышел на улицу — но «тут другой враг: тучи комаров. <…> С тоской глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и… И не мог решиться лечь!».[122]
Тем, кого помещали вне кремля, приходилось не лучше. Формально на Соловецком архипелаге было девять отдельных лагерей, а заключенные делились на роты. Но некоторым приходилось жить прямо в лесу.[123] Дмитрий Лихачев, будущий знаменитый филолог, увидев один из этих безымянных лесных лагерей, почувствовал себя привилегированным: «В одном из них я был и заболел от ужаса виденного. Людей пригоняли в лес, заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей были повыше и служили для сна».[124]
На более мелких островах центральная лагерная администрация еще слабее контролировала поведение отдельных охранников и лагерных заправил. Бывший заключенный Киселев описывает в мемуарах лагерную командировку на острове Анзер. Командировка, над которой начальствовал «чекист Ванька Потапов», состояла из трех бараков и бывшего монастырского здания, где располагалась охрана. Заключенные валили лес. Работали без отдыха до изнеможения и получали очень мало пищи. Отчаявшись, рубили себе руки и ноги. Как утверждает Киселев, Потапов развешал по стенам бараков и показывал посетителям «ожерелья» из отрубленных пальцев и кистей рук; многих он убил своими руками и показывал ямы, где лежало более четырехсот трупов. «Никто из присланных к нему не возвращался», — пишет о Потапове Киселев.[125] Даже если он преувеличивает, чувствуется подлинный ужас, который внушали заключенным дальние лагеря.
По всему архипелагу ужасающие санитарные условия, непосильный труд и плохое питание, разумеется, приводили к болезням, прежде всего тифу. Зимой 1925–1926 года во время памятной эпидемии из 6000 соловецких заключенных умерла примерно четверть. Согласно некоторым оценкам, смертность не снижалась и дальше: за год от недоедания, от эпидемий тифа и других болезней умирало, возможно, от четверти до половины заключенных. В одном документе говорится о 25 552 случаях заболевания тифом за зиму 1929–1930 годов (соловецкие лагеря к тому времени сильно расширились).[126]
Но для некоторых Соловки оборачивались еще более мучительными испытаниями, нежели примитивные бытовые условия и болезни. На островах заключенные чаще становились жертвами садизма и бессмысленных истязаний, чем в последующие периоды существования ГУЛАГа, когда, как пишет Солженицын, «рабочий гон становится продуманной системой».[127] Эти зверства описаны во многих воспоминаниях, но самый подробный их перечень содержится в документах комиссии, посланной из Москвы на Соловки в 1930 году для расследования злоупотреблений. Московские следователи с ужасом узнали, что соловецкие надзиратели регулярно оставляли заключенных зимой в одном белье на колокольне церкви. Людям при этом связывали сзади руки и привязывали к ним отогнутые назад до крайнего положения ноги. Так их держали до 48 часов. Заключенных сажали «на жердочки» — это были узкие скамьи, на которых люди должны были сидеть без движения по 18 часов. Если при этом ноги не доставали до пола, то они отекали. Совершенно голых людей гоняли в баню при 20-градусном морозе на расстояние до полукилометра от бараков. Заключенных кормили гнилым мясом, больным не оказывалась медицинская помощь. Людей заставляли выполнять бессмысленные приказы: перекидывать с места на место снег или прыгать в воду с моста по команде надзирателя: «Дельфин!»[128]