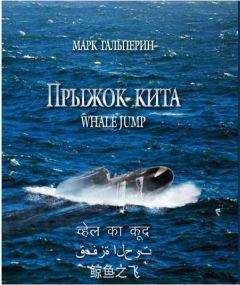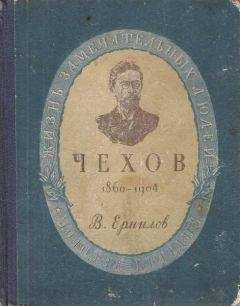Цезарь Вольпе - Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам
А. И. Менделеева
При личном знакомстве с Люб. Дм. Блок – Андрей Белый, С. М. Соловьев и Петровский[27] решили, что жена поэта и есть «Земное отображение Прекрасной Дамы», та «Единственная, Одна и т. д.», которая оказалась среди новых мистиков как естественное отображение Софии. На основании этой уверенности С. М. Соловьев полушутя, полусерьезно придумал их тесному дружескому кружку название «секты блоковцев». Он рисовал всевозможные узоры комических пародий с будущих ученых XXII века, Lapan и Pampan, которые будут решать вопрос, существовала ли секта «блоковцев», истолковывать имя супруги поэта Любовь Дмитриевны при помощи терминов ранней мифологии и т. д.[28]
М. А. Бекетова
Очень забавны были шаржи Сергея Соловьева: философы Lapan и Pampan и будущие споры филологов XXII века смешили нас до изнеможения, были в высшей степени остроумны. Но все-таки нельзя не вспомнить, что поведение «блоковцев» не всегда соответствовало тому серьезному смыслу, который они придавали своему культу. В их восторгах была изрядная доля аффектации, а в речах много излишней экспансивности. Они положительно не давали покоя Любови Дмитриевне, делая мистические выводы и обобщения по поводу ее жестов, движений, прически. Стоило ей надеть яркую ленту, иногда просто махнуть рукою, как уже «блоковцы» переглядывались с значительным видом и вслух произносили свои выводы. На это нельзя было сердиться, но это как-то утомляло, атмосфера получалась тяжеловатая. Шутки Сережи, его пародии на собственную особу облегчали дело, но и тут оставался какой-то неприятный осадок. Сам Александр Александрович никогда не шутил такими вещами, не принимал во всем этом никакого участия и, относясь ко всему этому совершенно иначе, тут предпочитал отмалчиваться.
М. А. Бекетова
Едва моя невеста стала моей женой, лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, так давно тайно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели. За мной последовала моя жена, для которой этот переход (от тяжелого к легкому, от недозволенного к дозволенному) был мучителен, труднее, чем мне. За миновавшей вьюгой открылась железная пустота дня, продолжавшего, однако, грозить новой вьюгой, таить в себе обещания ее. Таковы были междуреволюционные годы, утомившие и потрепавшие душу и тело.
Дневник А. Блока 15/VIII 1917 г.
Глава шестая
Московские символисты
Мы путь расчищаем
Для наших далеких сынов!
Если мы попробуем пережить девяносто седьмой, девяносто восьмой и девятый годы, тот период, который отразился у Блока в цикле «Ante lucem», то мы заметим одно общее явление, обнаруживающееся в этом периоде: разные художники, разные мыслители, разные устремления, при всех их индивидуальных различиях, сходились на одном: они были выражением известного пессимизма, стремления к небытию. Философия Шопенгауэра была разлита в воздухе, и воздухом этой философии были пропитаны и пессимистические песни Чехова, одинаково, как и пессимистические песни Бальмонта, – «В безбрежности» и «Тишина», – где открывалось сознанию, что «времени нет», что «недвижны узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет».
А. Белый. Памяти Александра Блока
В те годы в Москве собирался кружок, очень тесно привязанный к гостеприимным М. С. и О. С. Соловьевым; в кружке этом, помню, помимо хозяев и маленького «Сережи», Д. Новского (будущего католика), А. Унковскую, А. Г Коваленскую, А. С. Петровского, братьев Л. Л. и С. Л. Кобылинских, Рачинского; здесь я встречался с Ключевским, с С. Л. Трубецким[29]; здесь я встретился с Брюсовым, с Мережковским, с Гиппиус, с поэтессой Allegro[30] (с Владимиром Соловьевым встречался я раньше). Всех членов кружка единил звук эпохи, раздавшийся внятно, по-разному оформляемый каждым.
А. Белый
Слова А. А. Блока: «Январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года», – полны реализма; их надо принять текстуально; они – выражение опыта, пережитого Блоком; А. А. был свидетель эпохи, всегда наделенный тончайшим прозором и слухом.
А. Белый
Мы обманули надежды московского общества: я, сын математика и будущий московский профессор, ушел к «декадентам», опубликовавши «Симфонию», а М. С. Соловьев, покрывая своим одобреньем меня, уронил себя; именно в его доме сходились «подпольные» люди; и здесь окрепло течение, ниспровергающее традиции московского ученого округа.
Отсюда, из этого дома, распространилась поэзия А. А. Блока в Москве.
А. Белый
Соловьевы первые оценили стихи Блока. Их поддержка ободряла его в начале его литературного поприща. Когда же его стихи были показаны Андрею Белому, они произвели на него ошеломляющее впечатление. Он тут же понял, что народился большой поэт, непохожий ни на кого из тех, которые славились в то время. О появлении стихов Блока он говорил как о событии. Об этом сообщила Ольга Михайловна матери поэта. Известие обрадовало и мать и сына. Стихи стали распространяться в кружке «Аргонавтов», в котором числился в то время некий Соколов[31], писавший под псевдонимом Кречетова. Соколов основал издательство «Гриф» и в один прекрасный день явился к Блоку (в то время студенту третьего курса) для переговоров об издании его стихов.
М. А. Бекетова
В 1902 году в Москве образовался кружок (небольшой) горячих ценителей Блока; стихотворения, получаемые Соловьевыми, старательно переписывал я и читал их друзьям и университетским товарищам; стихотворения эти уже начинали ходить по рукам; так молва о поэзии Блока предшествовала появлению Блока в печати.
А. Белый
Ваша Москва чистая, белая, древняя, и я это чувствую с каждым новым петербургским вывертом Мережковских и после каждого номера холодного и рыхлого «Мира искусства». Наконец, последний его номер ясно и цинично обнаружил, как церемонно расшаркиваются наши Дягилевы[32], Бенуа и проч., а как с другой стороны, с Вашей, действительно страшно до содрогания «цветет сердце» Андрея Белого. Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком.
Письмо к С. Соловьеву 23/ΧΙΙ-02 г.
Помнится: в первых числах января 1903 года я написал А. А. витиеватейшее письмо, напоминающее статью философского содержания, начав с извинения, что адресуюсь к нему; письмо написано было, как говорят, «в застегнутом виде»: предполагая, что в будущем мы подробно коснемся деталей сближавших нас тем, поступил я, как поступают в «порядочном» обществе, отправляясь с визитом, надел на себя мировоззрительный официальный сюртук, окаймленный весь ссылками на философов. К своему изумлению, на другой уже день получаю я синий, для Блока такой характерный конверт, с адресом, написанным четкою рукой Блока, и со штемпелем «Петербург». Оказалось впоследствии: А. А. Блок так же, как я, возымел вдруг желание вступить в переписку; письмо, как мое, начиналось с расшаркиванья: не будучи лично знаком, он имеет желание ко мне обратиться; без уговора друг с другом, обоих нас потянуло друг к другу: мы письмами перекликнулись.
А. Белый
В январе 1904 года за несколько дней до поминовения годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, в морозный, пылающий день раздается звонок. Меня спрашивают в переднюю; – вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама за ним раздевается; это был Александр Александрович Блок, посетивший меня с Любовью Дмитриевной.
Поразило в А. А. Блоке (то первое впечатление) – стиль: корректности, светскости. Все в нем было хорошего тона: прекрасно сидящий сюртук, с крепко стянутой талией, с воротником, подпирающим подбородок, – сюртук не того неприятного зеленоватого тона, который всегда отмечал белоподкладочников, как тогда называли студенческих франтов; в руках А. А. были белые верхние рукавицы, которые он неловко затиснул в руке, быстро сунув куда-то; вид его был визитный; супруга поэта, одетая с чуть подчеркнутой чопорностью, стояла за ним; Александр Александрович с Любовь Дмитриевной составляли прекрасную пару: веселые, молодые, изящные, распространяющие запах духов. Что меня поразило в А. А. – цвет лица: равномерно обветренный, розоватый, без вспышек румянца, здоровый: и поразила спокойная статность фигуры, напоминающая статность военного, может быть – «доброго молодца» сказок. Упругая сдержанность очень немногих движений вполне расходилась с застенчиво-милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне (он был выше меня), с растерявшимися очень большими, прекрасными, голубыми глазами, старательно устремленными на меня и от усилия разглядеть чуть присевшими в складки морщинок; лицо показалось знакомым; впоследствии, помню, не раз говорил я А. А., что в нем есть что-то от Гауптмана (сходство с Гауптманом не поражало поздней).