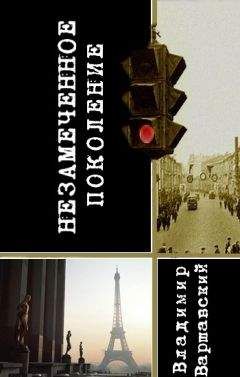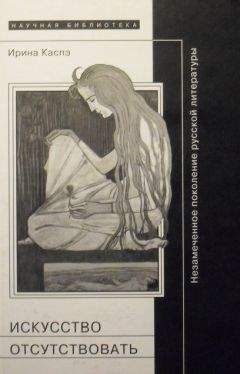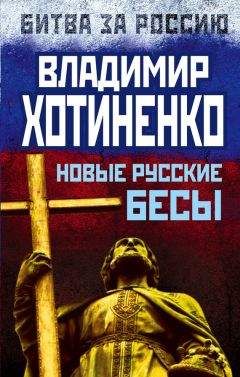Владимир Варшавский - Родословная большевизма
Уже после казни жирондистов Робеспьер читает в Конвенте в феврале 1794 года доклад «О принципах моральной политики»: «Нужно задушить внутренних и внешних врагов Республики… в революции движущая сила народного правительства — это одновременно добродетель и террор: добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор есть не что иное, как правосудие, быстрое, суровое, непреклонное. Следовательно, террор — одна из эманации добродетели… Внутренние враги французского народа разделились на две оппозиционных группировки, как на два армейских корпуса. Они движутся под знаменами разного цвета и по разным дорогам, но к той же цели. Цель эта — развал народного правительства, разрушение Конвента, т. е. торжество тирании. Одна из этих группировок толкает нас к слабости, другая к крайности».
В марте 1794 года судили и казнили эбертистов, в апреле дантонистов. Если перевести на сталинский язык, это была ликвидация левого и правого уклонов. Когда же после этого в Конвенте возникли новые разногласия, Робеспьер пришел в ужас.
В своей ненависти к фракциям и ко всем другим партиям, в своих расправах с оппозицией, в своей одержимости идеей монолитного единства, большевики — подражатели якобинцев. Они затвердили уроки Сен-Жюста: «При режиме свободы, основанном на абсолютной истине и добродетели, партии и фракции — преступный анахронизм. Мятежные группировки нужны были при старом режиме, они способствовали изоляции деспотизма и ослаблению тирании. Сегодня они преступны, так как изолируют свободу… Борьба партий уводит сердца и умы от любви к отечеству… Всякая партия преступна… всякая фракция преступна… фракции — самый страшный яд в политическом организме… Разделяя народ, они подставляют на место свободы партийные страсти».
Так думали и большевики. Уже в 1918 году были запрещены все партии, кроме коммунистической, даже самые левые. Затем взялись и за внутрипартийную оппозицию. В 1921 году X партсъезд предписывает немедленно распустить все фракционные группы. С тех пор борьба с оппозицией и фракциями все усиливается. Оппозиционеров начинают исключать из партии и расстреливать.
Робеспьер до прихода к власти требовал неограниченной свободы печати. Но, возглавив Комитет Общественного Спасения, он, так же как на фракции, гневно ополчается на «продажных писак, сговорившихся убить общественную добродетель, сеять раздор и готовить политическую контрреволюцию…»
То же и Сен-Жюст: «Революции нужен или диктатор, чтобы спасти ее силой, или цензор, чтобы спасти ее добродетелью». «Или… или» потом отбросили. Робеспьер стал и диктатором, и добродетельным цензором.
29-го марта 1793 года особым законом была установлена смертная казнь для тех журналистов и авторов памфлетов, которые будут нападать на суверенитет народа, призывать к роспуску Национального Конвента и восстановлению монархии.
«Требование свободы печати, когда революция торжествует, — контрреволюционно, так как оно подразумевает свободу бороться с революцией, а такой свободы не должно быть. Зато полная свобода поддержать революцию».
Разве не так рассуждают и советские цензоры? У нас полная свобода печати, при одном условии, конечно: она должна способствовать укреплению социализма и поддерживать нашу власть. Последние некоммунистические газеты были закрыты уже в 1918 году. Правда, еще до декабря 1925 года в партийных журналах появлялись время от времени статьи представителей внутрипартийной оппозиции. А незадолго до XV партсъезда ЦК даже напечатал в форме приложения к «Правде» несколько номеров «Дискуссионного листка» с контртезисами, статьями и речами оппозиционеров. Но это в последний раз прозвучал в советской печати голос несогласных с политикой ЦК.
Укажу еще на некоторые другие черты сходства между якобинской и большевистской диктатурами.
Якобинцы не были социалистами и не собирались отменять частную собственность, но они установили то, что Ленин называл «настоящим и главным преддверием социализма» — продовольственную диктатуру, строжайший контроль над распределением хлеба и топлива. По всей Франции, особенно в районах, снабжающих Париж, снуют отряды революционной армии и санкюлотов, посланных производить военные реквизиции и выколачивать из деревни хлеб и всякое вообще продовольствие. Нехорошие, несознательные крестьяне не хотят продавать зерно и муку по установленной твердой цене, сокращают посевы, прячут излишки. «Аристократию фермеров и лавочников» надо поставить на колени. Обыски, как правило, производились среди ночи. Расчет такой: видя солдат с ружьями и слушая яростные угрозы комиссара, крестьянин испугается и укажет свои потайные хранилища.
И вот под вооруженным конвоем тянутся к Парижу обозы и баржи, груженые хлебом, разными крестьянскими припасами, дровами.
24-го мая 1918 года «Правда» печатает письмо Ленина «К питерским рабочим». Ленин объясняет им, что пока они голодают, «миллионы и миллионы пудов хлеба прячутся богачами, кулаками и спекулянтами». Вывод простой: «необходима… обязательная сдача всего излишка хлеба государству по твёрдой цене, безусловное запрещение удерживания излишков хлеба кем бы то ни было… Хлеба для машин, то есть топлива, тоже крайний недостаток… надо организовать великий «крестовый поход» против нарушителей строжайшего государственного порядка в деле сбора, подвоза и распределения хлеба для людей и хлеба для машин… Нужен массовый «крестовый поход» передовых рабочих во все концы громадной страны. Нужно вдесятеро больше железных отрядов».
Так началась страшная эпопея продразвёрстки. Всё в этом письме Ленина «К питерским рабочим», даже язык, подсказано воспоминанием о примере якобинцев. Свидетельство тому фраза: «в критические минуты жизни народов бывало не раз, что далее немногочисленные передовые отряды передовых классов увлекали за собой всех, зажигали огнем революционного энтузиазма массы, совершали величайшие исторические подвиги». Позднее, в 1921 году, сам Ленин признает: «своеобразный «военный коммунизм» состоял в том, что мы фактически брали у крестьян все излишки, и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьян продовольствия».
Устанавливая контроль над всем хозяйством, якобинцы проводят одновременно централизацию всего административного управления. Перед ними стояла многосложная и трудная задача: мобилизовать все ресурсы страны для производства вооружения и снабжения для армии; собирать и распределять продовольствие; поднять всенародное ополчение; бороться с «федерализмом», контрреволюцией, изменой и шпионами; взять всю власть на местах в свои руки. Чтобы осуществить всё это, потребовались бесчисленные особоуполномоченные агенты, техники, контролеры, чиновники всякого рода. Кадры органов управления и подавления чудовищно разбухали. Бюрократическая машина еще никогда не достигала во Франции таких размеров. Число новых постоянных и временных чиновников доходит в одном только Париже до многих десятков тысяч, в провинции до многих сот тысяч. Государство становится главным работодателем, огромное число граждан его платными служащими. Все это великое множество чиновников поставляют якобинские «народные общества», прозванные «факелами общественного духа».
Якобинский партаппарат сливается на всех ступенях управления с государственным и административным аппаратом. Одновременно в якобинских клубах идет беспощадная чистка, остаются только безоговорочные сторонники Робеспьера.
Муниципальные выборы отменяются. Местное самоуправление заменяется бюрократическим. Во главе каждого департамента ставят особого «национального агента», присланного из Парижа и ответственного перед Комитетом Общественного Спасения. Все эти национальные агенты и особоуполномоченные Конвента, опираясь на тьмы чиновников и отряды революционной армии, хозяйничали в стране от имени народа, угнетая народ, как настоящие завоеватели. Развращаясь властью и фактической безнаказанностью, они проникаются сознанием своего превосходства и всемогущества: от их усмотрения, от их произвола зависели благоденствие, жизнь и смерть граждан. Это неизбежно вело к вопиющим злоупотреблениям и скандалам, к чудовищным злодеяниям.
Рядом с революционной яростью в душах якобинских помпадуров расцветало то особое чувство, которое Щедрин бессмертно назвал «административным восторгом». Размахивая саблями и пистолетами, они обращались к населению с кровожадными призывами: «воздвигайте плахи, пусть стены ощетинятся виселицами, всякий, кто с нами не согласен, да будет немедленно умерщвлен!»
Мне легко это себе представить. Я видел в детстве в Одессе: солдаты с винтовками вводят человек двадцать арестованных в ворота ЧК, комиссар в кожаной куртке и в студенческой фуражке раздвигает собравшихся зевак, театрально широко размахивая наганом. Я был еще совсем мальчиком, но почувствовал в его лице это выражение упоения властью. Он знал, что на него смотрят.