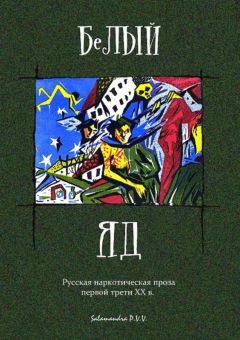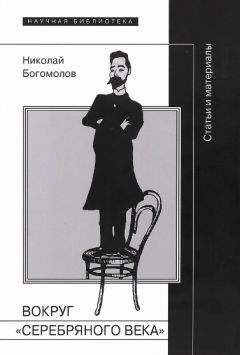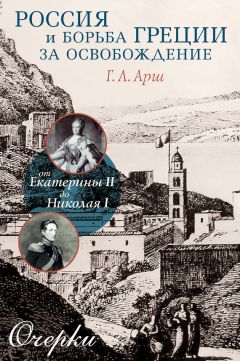Николай Богомолов - Русская литература первой трети XX века
Для Мандельштама Анненский был поэтом, который, во-первых, внес в нашу культуру «внутренний эллинизм» и дух высокой филологии, которых ей так не хватало. И второе, что было с этим связано, — умение Анненского соединить дух своей эпохи с той «тоской по мировой культуре», которая под конец жизни превратилась у Мандельштама в символ истинного акмеизма.
Но сильнее всего поэзия Анненского воздействовала на творчество Анны Ахматовой, что неоднократно было подтверждено как ею самой, так и многочисленными исследователями[82]. Думается, именно Ахматовой в наибольшей степени удалось воплотить тот дух обостренной совести, с которого мы начинали разговор. Тема совести — сквозная в «Поэме без героя», где она перерастает в тему нравственного суда над своим временем и над самой собой. Но не в меньшей степени связаны с Анненским и открыто социальные стихи Ахматовой, не прячущиеся «в роковую шкатулку, в кипарисный ларец», ту шкатулку, у которой тройное дно, как чаще всего бывало в поздней лирике Ахматовой. И особое значение приобретает для нее стихотворение «Петербург», строки из которого: «Да пустыни немых площадей, / Где казнили людей до рассвета» — были поставлены эпиграфом к одному из вариантов стихотворения «Все ушли и никто не вернулся...», а потом в том же качестве эпиграфа перекочевали в эпилог «Поэмы». Этот блуждающий эпиграф служил знаком того, что не могло быть опубликовано при жизни автора, как утаившиеся за отточием строки эпилога или как сохраненные Л.К. Чуковской «пропущенные» строфы «Решки»:
Ты спроси у моих современниц,
Каторжанок, стопятниц, пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.
Посиневшие стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором
(Мы, увенчанные позором):
«По ту сторону ада мы»...
Совершенно особую роль поэзия Анненского сыграла в творчестве «младших акмеистов» — Георгия Иванова и Георгия Адамовича, первый из которых напитывал свои стихи и прозу не простыми цитатами из Анненского, а самим духом его творчества, делая его символы своими, образуя тем самым особое художественное пространство; второй очень часто делал Анненского мерой всех достижений современной поэзии. Но это — уже совершенно иная тема, неразрешимая в данных рамках.
* * *
Максимилиан Волошин вспоминал о том, как Анненский читал свои стихи: «Иннокентий Федорович достал большие листы бумаги, на которых были написаны его стихи. Затем он торжественно, очень чопорно поднялся с места (стихи он всегда читал стоя) <...> Окончив стихотворение, Иннокентий Федорович всякий раз выпускал листы из рук на воздух (не ронял, а именно выпускал), и они падали на пол у его ног...» (ПК-70). Эти выпускаемые из рук листы — то ли «разметанные листы», то ли «опавшие листья» — плавно покачиваясь на воздухе, опускались в русскую поэзию, становясь ее плотью и кровью. Без «Кипарисового ларца» она уже давно немыслима, как немыслима и вся русская культура без царскосельского эллиниста, полиглота, барина, декадента, директора гимназии, поэта мучительной совести.
Читатель книг
Впервые — как вступительная статья к первому тому «Сочинений» Гумилева (М., 1991). Использованы также фрагменты предисловия к кн.: Гумилев Н. Избранное. М., 1994.
О жизни и поэзии Николая Степановича Гумилева можно рассказывать по-разному. Можно сделать его героем авантюрного романа, где есть многочисленные любовные интриги, африканские приключения, война, Париж и Лондон 1917 —1918 годов, загадочная петроградская литературная жизнь после революции, заговоры, снова любовные похождения, поезд наркома военно-морских сил,— и, наконец, героическая гибель от пули чекиста-палача[83]. И в этой биографии будет много правды, за исключением одной: правды о поэте, жившем своими стихами, подчинившего жизнь поэзии и погибшего в конце концов за нее.
Мы будем рассказывать именно о поэте, у которого — как и у всякого поэта — жизнь была прежде всего в творчестве, и рассказать о ней можно только через стихи, давшие его жизни инобытие. Для автора «Памяти» и деятельного поклонника мистических учений такая судьба была очевидна. Для читателей и ценителей его поэтического таланта, не переводившихся и в самые жестокие времена, судьба эта обрела значение символическое. Но для исследователя, стремящегося понять литературное дело поэта, она стала серьезной помехой.
Речь сейчас не о том, что много лет имя Гумилева вычеркивалось цензорами и редакторами из книг и статей; дело даже не в том, что множество материалов, связанных с его жизнью и творчеством, оставались закрытыми в государственных архивах или рассеянными в личных собраниях, — в конце концов это можно было так или иначе обойти. Для нас существенно, что трагический конец определил судьбу посмертной жизни Гумилева. Когда-то Ю.Н. Тынянов написал о Хлебникове, но явно имея в виду не только его: «Как бы ни была странна и поразительна жизнь странствователя и поэта, как бы ни была страшна его смерть, биография не должна давить его поэзию. Не нужно отделываться от человека его биографией. В русской литературе нередки эти случаи. Веневитинов, поэт сложный и любопытный, умер 22 лет, и с тех пор о нем помнили твердо только одно — что он умер 22 лет»[84]. В наше время, когда стихи Гумилева наконец вернулись к широкому читателю (и, что не менее важно, вернулись не отдельными книгами, до которых можно было сложными путями добраться, а в полном объеме), стала очевидной настоятельная необходимость поговорить не о смерти поэта, а о его жизни — жизни в стихе, в поэзии, в литературе.
Пытаясь сделать это, невольно обнаруживаешь, что движешься как будто по кочкам в болоте, где каждый неверный шаг грозит срывом в пропасть банальности или откровенного вранья. Среди множества наговоренных уже о Гумилеве слов достаточно мало слов трезвых и выношенных, основанных на понимании его места в истории русской поэзии, как среди современников, так и на фоне предшественников и последователей.
Между прочим, одной из первых такую работу начала Ахматова. В дневниках П.Н. Лукницкого, сохранивших множество сведений первостепенной ценности для биографии как Гумилева, так и Ахматовой, нередки такие записи ее слов: «...в последние годы Николай Степанович снова испытывает влияние Бодлера, но уже другое, гораздо более тонкое. Если в 7—8 году его прельщали в стихах Бодлера экзотика, гиены и прочее, то теперь то, на что тогда он не обращал никакого внимания,— более глубокие мысли и образы Бодлера. То, что у Бодлера дается в сравнении, как образ,— у Николая Степановича выплывает часто как данность. Это именно и есть влияние, поэтическое, а не «эпигонское слизывание» ...»[85]
Конечно, всерьез писать работы такого уровня и рода еще явно рано. Существует множество тем, требующих специального научного исследования, чтобы выяснить точки реального соприкосновения творчества Гумилева с культурой его времени и времен предшествующих. Без них рассуждения о литературном деле Гумилева будут повисать в безвоздушном пространстве, звучать неубедительно. Однако еще более неубедительны сплошь и рядом встречающиеся рассуждения об экзотизме и рыцарственности, о преодолении оторванности от России, о том, как Гумилев из подражателя становится самостоятельным поэтом. То, что лежит на поверхности, слишком часто оказывается обманчивым, нуждающимся в особом истолковании, и, думается, ключом к такому истолкованию должны послужить книги, которые Гумилев читал и запоминал надолго.
«Как? — воскликнет иной удивленней читатель. — «Поэт-рыцарь», «поэт-воин», — и вдруг всего лишь читатель книг, погруженный в умственные проблемы?»
Не станем отрицать очевидного: в жизни Гумилева было много путешествий, приключений, даже подвигов (хотя, конечно, далеко не так много, как это может показаться при наивном отождествлении героя его стихов с самим поэтом). Но стоит внимательно присмотреться к его поэзии, как без труда видишь, сколь часто в ней фигурируют разные книги, имена читаемых и почитаемых поэтов, библиотеки, букинисты и т.п. И в воспоминаниях о Гумилеве нередки свидетельства о богатой царскосельской библиотеке, о неожиданной его начитанности в самых разных областях знаний. Невозможно отрицать его блестящее, хотя, конечно, и пристрастное знание русской и мировой поэзии. Георгий Иванов, свидетель более чем ненадежный в общем, но нередко удивительно точный в частностях, вспоминал: «...на вопрос, что он испытал, увидав впервые Сахару, Гумилев сказал: «Я не заметил ее. Я сидел на верблюде и читал Ронсара»»[86]. Пусть даже это была бравада и рассчитанное высокомерие по отношению к слушателям, но можно ведь вспомнить и о том, что во вполне реальных письмах с фронта к Ларисе Рейснер мелькают то «Столп и утверждение Истины» П.Флоренского, то «История Мексики» Прескотта...