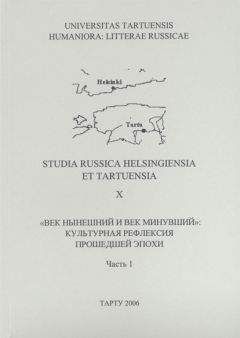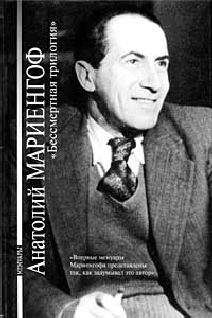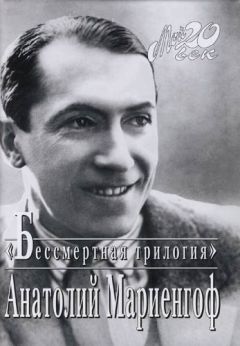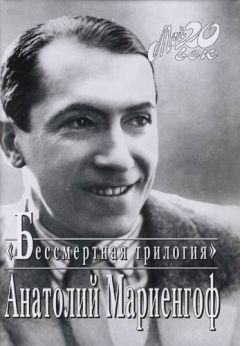Томи Хуттунен - Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники
Вновь возникает и мотив «иностранца в своей стране»: «О други, нам земля отказывает в материнстве. / Пусть будем мы в своей стране чужими».[190] В 1924 году уже «бывший» имажинист Есенин посвятил свою знаменитую «Русь советскую» А. Захарову. Однако нам представляется вполне оправданным считать это стихотворение репликой, обращенной к Мариенгофу, который писал в 1922 году: «В моей стране / Как будто я приемыш». Есенин же ответил ему в 1924-м: «В своей стране я словно иностранец». Впрочем, есенинский текст следует рассматривать шире — в контексте мариенгофских стихов о разочарованиях 1922 года. Так, в стихотворении «Наш стол сегодня бедностью накрыт…» Мариенгоф пишет: «Не нашим именем волнуются народы, / Не наши песни улица поет»,[191] а Есенин отвечает: «Другие юноши поют другие песни». Причем простое сравнение (у Есенина «словно», у Мариенгофа «как будто») несет здесь особый имажинистский оттенок, хотя некогда обязательный метафоризм уже не доминирует. Кроме того, в этих текстах говорится об одном: о том, как лирический герой оказывается «чужим», не «своим» в Советской России времен нэпа. Герой Мариенгофа, который в поэме «Магдалина» был «недоноском» или «выкидышем», оказывается теперь «приемышем», чужим и не любимым страной и читающей публикой. Вернувшийся «в край осиротелый» есенинский герой ощущает, что язык сограждан ему чужд, и чувствует себя лишним. Этот имажинистский диалог тем более интересен, что стихотворение Есенина было воспринято как его явный стилистический отход от «бурного имажинизма» и обращения к спокойному классическому стиху, как приближение к Пушкину.[192] Перекличка с Мариенгофом воспроизведена у Есенина как диалог между разумом и чувством:
Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.
Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать».
Ах, родина, какой я стал смешной!
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.[193]
Мариенгоф-поэт, как и имажинистская группа в целом, является порождением анархистской идеи борьбы со старым миром, разрушения ради созидания, и потому, когда борьба закончилась, была утрачена сама основа имажинистского дендизма. Характерны в этом смысле выводы, к которым пришел Глубоковский в своем разборе стихов Мариенгофа в 1924 году: «Миновала эпоха борьбы. Запестрели золотые лампочки Нэпа. Задышали заводы. Тяжелой, но ровной поступью зашагала жизнь. <…> И стихи Мариенгофа стали ясны. Исчезла нервозность. Стал локтем пульс. Кончилась горячка. <…> Спокойствие родило скуку. И романтическую грусть».[194] Как видим, критик тонко уловил изменение в общей тональности поэзии Мариенгофа.
С началом нэпа закончилась революция, как в материальном, так и в духовном смысле. Для имажинистов это означало прекращение деятельности как таковой, потому что они жили идеей конфликта и отрицания. Вместе с концом революции исчезал их главный оппонент, так как в стране победившего коллективизма утрачивали всякий смысл имажинистская антиидейность и индивидуализм. И хотя Шершеневич еще надеялся на революцию «духовного порядка», время имажинистской борьбы, казалось бы, навсегда ушло. Настала эпоха утилитаризма и бытописательства, эпоха лефовского «литературного факта». Однако, как вскоре выяснилось, она стала «временем Мариенгофа» — периодом издания журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном» и новой борьбы. Ибо, если господствующая мода изменилась, изменился и главный враг имажинизма. Настала пора надевать новые маски.
1.5. Гостиница
В годы существования журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (1922–1924)[195] антифутуристический бунт имажинистов принимает новое направление. Вне всякого сомнения, это происходит вслед за изменениями настроений в стане самих футуристов. Модные слова «утилитарное», «факт» или «интернациональное» раздражают этих поэтов, претендующих на то, чтобы быть первыми. Имажинисты — и прежде всего Мариенгоф — проповедуют культ прекрасного, на основании чего отрицают утилитаризм ЛЕФа и фактовиков. Учитывая особенности имажинистского бунта, можно с большой долей вероятности утверждать, что само название их нового журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном» возникло как антитеза моде на утилитарные тенденции.[196] Неудивительно, что имажинисты по-прежнему остаются изысканными денди.[197]
В имажинистском культе прекрасного со всей очевидностью обнаруживается уже знакомое нам уайльдовско-декадентское начало. К примеру, Мариенгоф использует в журнале такие понятия, как «творец» и «потребитель прекрасного», которые восходят к «Портрету Дориана Грея» Уайльда.[198] А на первой странице первого номера помещает своего рода эстетический манифест дендистского имажинизма: «…пусть все обстоит так, чтобы для путешествующих поднятие на гору не было опасной экспедицией ради открытия каких-то высот, а веселой прогулкой для собственного удовольствия. Чтобы ничто не нарушило: ни приятные свойства походки, ни легкость светских манер, усвоенных с такой трудностью от господ иностранных воспитателей».[199] Его источники известны — это великие денди истории культуры и декаденты конца XIX века, «походка» которых по-новому усваивается и применяется в революционных условиях: «Мы ищем и находим подлинную сущность прекрасного в катастрофических сотрясениях современного духа, в опасности Колумбова плавания к берегам нового миросознания (так понимаем мы революцию), в изобретательстве порядка космического».[200]
Что касается ЛЕФа, то в этом же «ницшеанском» манифесте[201] Мариенгоф утверждает, что фактовики слишком модны, и потому имажинистам с ними не по пути: «Раньше их привлекали белоснежные горы прекрасного, теперь же из ста путешествующих девяносто восемь предпочитают благоустроеннейшие курорты в стране утилитарного».[202] Другая господствующая мода, против которой имажинисты весьма активно выступают на страницах первого номера своего журнала, — интернационализм. Еще в 1921 году Мариенгоф и Есенин подписали совместный патриотический манифест. Урбанист Мариенгоф перерядился тогда в антиурбаниста и националиста вместе с Есениным: «Созрев на почве родины своего языка без искусственного орошения западнических стремлений, одевавших россиийских поэтов то в романтические плащи Байрона и Гете, то в комедиантские тряпки мистических символов, то в ржавое железо урбанизма, что низвело отечественное искусство на степень раболепства и подражательности, мы категорически отрицаем всякое согласие с формальными достижениями Запада <…>. Поэтому первыми нашими врагами в отечестве являются доморощенные Верлены (Брюсов, Белый, Блок и др.), Маринетти (Хлебников, Крученых, Маяковский), Верхарнята (пролетарские поэты — имя им легион). Мы — буйные зачинатели эпохи Российской поэтической независимости».[203] Свою «Гостиницу.» они называли «Русским журналом», публикуя на ее страницах неоклассицистические, неославянофильские, националистические манифесты. В том же ключе воспринимаются и упомянутая выше «Не передовица», и статья Мариенгофа «Корова и оранжерея»,[204] и статья Глубоковского «Моя вера».[205] Заметим, что Шершеневича на страницах первого, консервативного манифеста прекрасного мы не находим. В манифесте 1921 года он тоже не участвовал. Тем не менее в этот период Шершеневич разделял уайльдовский эстетизм Мариенгофа.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что импульсом к появлению имажинистского журнала послужили поиски новой моды там, где ее больше уже не могло быть, так как источником «модности» для имажинистов стала только что ушедшая эпоха, фрагменты которой они пытались реконструировать в настоящем. На подобный парадокс обратили внимание уже современники: «Это искусство покойников, сейчас уже никому не опасных, безвредных, как бы они ни лязгали обнаженными деснами, и ни сверкали провалившимися глазами. Правда, неприятных, издающих трупный смрад купеческого, мистико-националистического эстетизма».[206]
В статье «Корова и оранжерея», само название которой является сочетанием несочетаемого, Мариенгоф уточняет свое отношение к «художественности» искусства: «Материал прекрасного и материал художественного ремесла один и тот же: слово, цвет, звук и т. д. Искусство, проделывая над ним метаморфозу творческого завершения или подчинения законам формы, решает проблему темы. Для художественного ремесла материал самоценен сам по себе. Материал, как таковой, вне каких-либо подчинений. Иначе говоря, ремесло преследует решение материальных положений, в противовес искусству, раскрывающему тему лирического и миросозерцательного порядка».[207] Декларируемое здесь отрицание самоценности материала в искусстве, которое противопоставляется по данному признаку художественному ремеслу, можно назвать определенной теоретической новацией, особенно если учесть, что ранее имажинисты хотели представить читателю действительность без каких-либо комментариев: «…единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов».[208] При этом поэт выступает в роли наблюдателя, фиксирующего реальность в той последовательности, в какой ее видит. Однако разница между простым копированием и художественной передачей действительности в данном случае все-таки есть. Недаром, с легкой руки Уайльда, Шершеневич писал, что явления мира существуют только лишь потому, что они были когда-то изображены художниками, поэтами.[209] Претворение жизни является целью поэта, он преображает предметы, создавая новые миры. Шершеневич не устает подчеркивать основной парадокс искусства: «Все упреки, что произведения имажинистов неестественны, нарочиты, искусственны, надо не отвергать, а поддерживать, п. ч. искусство всегда условно и искусственно. Рисовальщик черным и белым рисует всю красочность окружающего».[210] Нетрудно догадаться, что под рисовальщиком здесь подразумевается О. Бердслей, мастер черно-белых рисунков и иллюстратор Уайльда, скрытое упоминание которого в этом пассаже опять-таки не случайно. К «литературе факта», «антибеллетристике»[211] и «бытописательству» имажинисты относятся резко отрицательно. Шершеневич, который в 1910-е годы активно сотрудничал с будущим ведущим фактовиком Сергеем Третьяковым, пишет в рецензии 1924 года: «Говорить о бытописательстве это значит раз и навсегда отказаться от того назначения культуры, которое культуре свойственно: быть гудком на паровозе истории. Быть семафором катящемуся времени. Бытописательство сводит роль поэта до роли станционного смотрителя, отмечающего в книге, поезд такой-то прошел во столько-то минут. Задача необходимая, но право, если и не отметится час, то поезд от этого не остановится. Мы переживаем эпоху, когда революция материального, брюхового порядка заканчивается, когда начинается революция духовная. Когда на смену канону идет новый канон. <…> Именно потому искусство и противоположно всегда бытописательству, что материалом искусства является будущее, не поддающееся фиксации бытовым способом. <…> Революционным в искусстве является то, что предугадывает (или предустанавливает) грядущие пути. Поэт не пророк (пусть это пророчество идет от сердца или от ума) — не поэт. Единственное соглашение, которое надо подписывать, это соглашение с будущим. И только то искусство должно быть названо революционным, которое может быть напечатано в № «Правды» от 1950 года».[212]