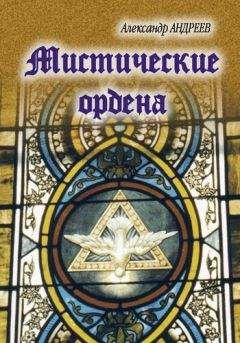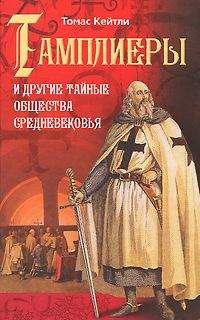Владимир Уборевич - 14 писем Елене Сергеевне Булгаковой
Запомнила, что платье надела летнее светло-синее в более светлый синий горошек. А вот воротничок был недостаточно свеж. Об этом я быстро забыла у Елены Сергеевны. Она устроила проводы Жене, который ехал снова на фронт. За столом были Оленька с Евгением Васильевичем Калужским, мы с Женей, Елена Сергеевна. В подарок Жене были приглашены Качалов и Фаина Раневская.
Качалов читал Бунина, а Фаина Георгиевна рассказала нам о своей новой работе в спектакле «Лодочница» театра Революции. Тут мы с Женей покатывались со смеху. До слез. Это была для меня еще одна радость – встреча с любимыми людьми.
Дальше был арест и 13 лет Воркуты.
ПИСЬМО № 12
12-VII-63 г.
Дорогая Елена Сергеевна!
Продолжаю.
Рассказывала Вам вчера о первом дне тюрьмы. Насколько я помню, восприняла я все происходящее очень своеобразно. Во-первых, я не переставала мечтать в течение всех шести месяцев сидки о той минуте, когда меня выпустят, и я, счастливая, нарядная, с кучей денег (на путевку я имела с собой 1200 р.), пойду по Кузнецкому мосту в институт (он помещается на Рождественке), а потом поеду к Машеньке.
В первый же день я как будто даже успокоилась: «Наконец все на месте!» Кроме того, мне даже приятно было помучиться за папу. У меня есть в характере эта дурацкая жертвенность или любопытство к страданиям. Помню, в 10 лет я мечтала так разбиться, чтобы кровь лила ручьем, раны были страшные, и все меня жалели и «восхищались» мной. Дурь.
Сейчас я более всего боюсь, чтобы меня жалели, и ненавижу вспоминать это прошлое. Если же вдруг начну вспоминать прошлое хорошее и плохое – безразлично (так как хорошее тоже больное), то уж заранее знаю, что заболею, скисну.
Говорю я Вам это, чтобы объяснить, почему мне так плохо пишется. Вы, наверное, чувствуете, что я плохо пишу.
В ярко освещенном «боксе» за мной зорко и нахально следил «глазок». Из хлеба не разрешил лепить.
Дорогая Елена Сергеевна!
По-видимому, я перешла на другой тон описания моих приключений, так как писать стало трудно и противно. Попробуем не заниматься исследованием моих настроений. Расскажу одни факты.
Просидела я в «боксе» всего три дня. Было излишне светло, одиноко, и все часы, отведенные на сон, я проводила у следователя. Он же неутомимо психовал, бегал вокруг меня, размахивая пистолетом, периодами засыпал за своим столом, скрываясь за шевелюрой, потом опять бегал, кричал, матерился, и так каждый день пять-шесть часов ночью и пару часов днем.
На четвертый день меня перевели в общую камеру. Встречу с женщинами я восприняла как праздник. В этой камере с паркетом, кроватями, столом, чайником и парашей в углу я просидела около трех месяцев. Утром мы натирали паркет, несли парашу в большой чистый туалет. Умывались. Времени личного было много, и мы внимательно относились к своей прическе. Вызовы к психам-следователям начинались в мертвый час. Специально давали нам лечь, а тогда вызывали. Так же ночью[11].
Тогда-то я возненавидела лютой ненавистью Петеньку. Оказалось, его посадили в июле, и он показал, что рассказывал мне и Светлане (Светлану посадили в Свердловске в трамвае 12 сентября, и привезли сюда же) и что мы «соглашались», «возмущались»[12]. Почему-то я решила, что он провокатор чистой воды, то есть что он не сидит с нами, а живет на воле. Потому в день очной ставки я очень внимательно разглядывала его, ища следы «той» жизни. Но у него были отпороты пуговицы на брюках, сбриты волосы, и был он чрезвычайно бледен. Следователя нам сменили. Теперь вел дело полный, спокойный блондин – садист. Пока я сидела у него, он (я думаю, нарочно) разговаривал с женой по телефону о театре, о развлечениях и всяких проявлениях жизни человеческой[13].
Когда я сказала, что сижу за отца, он чуть не лопнул от возмущения: «У нас дети за отцов не отвечают!»
Следствие изматывает ужасно. Сейчас странным кажется, что у всех были так напряжены нервы. В конце концов получили бы те же сроки и не изводя себя переживаниями. Просто у них так было поставлено дело. Не хочется вспоминать подробнее. Не могу себя заставить. Скажу только, что на Лубянке, то есть во время следствия, было труднее всего[14].
(Ради бога простите за кляксы!!! И грязь!!)
Потом меня перевезли (ночью в одном из узких ящиков черного ворона) в Бутырки. Это значит, что следствие кончилось. Прочитав наше дело («Дело Якира, Уборевич, Тухачевской и Толстопятова»), я все еще не поняла, что состав преступления набрался, что меня есть за что осудить[15].
Три месяца я просидела в Бутырской тюрьме, ожидая приговора. Обстановка этой тюрьмы проще и, если можно так сказать, веселее. Екатерининская тюрьма со сводчатыми огромными полутемными камерами (кстати – везде на окнах намордники).
Койки, вроде раскладушек, днем закрепляются вертикально к стене. Но здесь у всех уже следствие позади, никого не мучают, не истязают ночами, и никто не понимает, что его ждет. Человек не может никогда представить, что его ждет впереди. Всегда жду лучшего.
Все еще я представляла себе, что выйду из тюрьмы и пойду по Кузнецкому… Теперь (в Бутырках. – Ю. К.) я уже придумала, наверное, иную картину «возвращения», но ее я не помню. А может, она не была так точно привязана к местности, так как я не знала расположения Бутырок.
Светлана сидела в соседней камере, и мы начали сначала перестукиваться, а затем «переписываться». Здесь режим был не так страшен, как на Лубянке, но «глазок»
все же следил за нами неустанно. Вы, наверное, не знаете, что такое «глазок», Елена Сергеевна! Ну и слава Богу!!!
Глазок – это крошечное окошечко в двери, в которое ведется неустанно наблюдение за жизнью в камере. Я забыла Вам сказать, что в камерах горит свет (на Лубянке более яркий) день и ночь. Ночью у всех заключенных должны быть руки поверх одеяла, чтобы не могли покончить с собой. Привыкнуть к этому трудно, и потому эти мерзкие служители Бога Страдания заходят с окриками то на одного, то на другого по много раз в ночь.
Вызывают же: «Кто здесь на “У” или на “Б”», а уж тогда говорят фамилию. Это, чтобы при их ошибке мы не узнали, кто сидит рядом.
В камерах много стукачей и провокаторов. Через них следователи узнают или стараются узнать, что не удается на следствии. Среди встретившихся мне под следствием женщин не было ни одной с настоящим преступлением.
<…> В Бутырках, я уже сказала Вам, мы умудрились со Светланой переписываться. Делали мы это так. Я, например, отрывала кусочек светлой материи от пижамы, разводила в крышке чайника содранную с окон краску (была война, и стекла были покрыты черной краской) и сев за чью-либо спину (прячась от «глазка») – писала щепкой печатными буквами записочку. Глупы мы были невообразимо, так как писали с таким риском ужасающую чепуху. Например, 14 февраля (45 г.) Светлана поздравила меня с днем рождения и прислала вышитый платочек.
<…> Письма свои мы клали за батарею в уборной. Обо всем договорились перестукиванием примитивнейшим. А – 1 раз, Б – 2 и т. д.
В каждой камере есть стукачи, и нас со Светланой за переписку посадили на пять суток в карцер.
Заведение это пресквернейшее. В подвальном помещении располагается два ряда каменных мешочков с коридором посредине. Холод поддерживается особой продувной вентиляцией. В карцере – то есть в одной камере есть бетонный столбик, на который опускается с двенадцати ночи до шести утра доска-кровать, лампочка и больше ничего. В торце коридорчика около моей крайней камеры стоит стол и два стула дежурных, которые сидят здесь в тулупах. К счастью, мои соседки, приятельницы по основной камере, дали мне с собой мою студенческую телогрейку, и я мерзла не так сильно, как бедная Светлана. У той вообще не было теплых вещей, так как арестовали ее в сентябре в трамвае. В карцере за пять дней один раз горячий суп и три раза кипяток. Хлеб 300 г в день. Это все. Но это, конечно, ерунда, так как есть и не хочется.
У меня было что-то плоховато с сердцем. Пульс очень частил, грудь сдавлена, врача не вызывают. Мы со Светкой (она сидела где-то посредине коридора) сидели молча. В карцере по соседству со мной сидел какой-то блатной, который вел себя, как тряпка. То объявлял голодовку, то требовал «свою кровную пайку», выл и плакал омерзительно. Да, все пять суток время я отмечала палочками на стене. Определяла его днем по выдаче кипятка. А шло оно медленно ужасно. За дверью у меня с утра до вечера разговаривали за жизнь дежурные. Я никогда в жизни больше не слыхала такого равнодушного, пресного, обильного мата. Через слово без чувства, без выражения мат, мат и мат.
Из карцера возвращают, слава Богу, в «родную» камеру к уже близким людям. Встретили меня женщины участливо, заботливо, накормили, согрели. Ноги опухли, но я не заболела. У Светы тоже ноги опухли, хотя на сердце она раньше не жаловалась. В карцере на третий день я мыла коридор и за это получила лишнюю миску супа. Есть не могла и попросила передать эту заработанную миску Свете. Глупая моя подруга решила, что мне принесли передачу (с воли) и потому я ее осчастливила этой дрянью. Это она мне сказала потом. Почему люди всю жизнь так плохо знают своих друзей? Я ем вкусные вещи и передаю ей бурду! А?