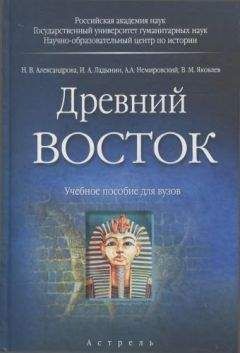Вячеслав Никонов - Крушение России. 1917
Провинция присоединилась к спекулятивной горячке столицы, и к осени 1913 г. Россия из страны праздных помещиков и недоедавших мужиков превратилась в страну, готовую к прыжку, минуя все экономические заслоны, в царство отечественного Уолл-Стрита!»[106]. Наряду с фондовыми, вовсю развивались товарные биржи, число которых достигло 94. Сюда входили и биржи широкого профиля, предлагавшие сотни наименований товаров, и специализированные, занимавшиеся крупнооптовым сбытом хлеба, мяса, леса, угля. Рост товарных бирж приостановил развитие ярмарок, число которых в предвоенные годы оставалось на уровне около 17 тысяч[107].
Россия стала одним из лидеров в области экономических и финансовых исследований, наши ученые в этих областях пользовались мировой известностью.
Однако следует заметить, что плоды индустриальной революции, как и следы рыночных отношений, были слабо заметны на селе, где было занято семь восьмых населения. Значит ли это, что крестьянское население беднело в абсолютном выражении и вымирало в массовом порядке из-за «голодного экспорта»? Сразу заметим, что сельское хозяйство, по-прежнему составлявшее основу экономики страны, росло темпами, обгонявшими прирост населения. С 1885 по 1913 год средняя урожайность в стране поднялась в 1,7–2 раза, валовые показатели сельхозпроизводства увеличивались на 2,5–3 % в год[108]. Шло постоянное расширение хлебных посевов, усиливалась порайонная специализация зернового хозяйства, его товарность. Производство сахара с 1897 по 1913 год выросло в 2,4 раза, растительного масла – более чем в 10 раз[109]. Прирост, однако, обеспечивали в основном мелкие крестьянские хозяйства, все больше вытеснявшее крупное помещичье землевладение, на долю которого приходилось уже немногим более 7 % сельхозпродукции. Урожайность зерна в России составляла в 1908–1912 годах 53 пуда на десятину, на уровне Португалии, тогда как во Франции – 83, в Германии и Англии – около 130, Бельгии, Голландии и Дании – более 145 пудов[110]. По среднедушевому потреблению хлеба Россия среди великих держав опережала только Австро-Венгрию.
Но это не снижало объемов вывоза зерна, которое составляло 63 % всего экспорта из России. Без вывоза хлеба обходиться было невозможно, так как он являлся главным источником накопления для промышленного развития. Как доказывал известный экономист Николай Кондратьев, «избытки хлебов в России, товарность этих хлебов и развитие экспорта их базируется, в общем, на относительно низких нормах потребления широких масс населения»[111]. Именно здесь, как мы видели, многие исследователи видели «мальтузианскую ловушку» России.
Что ж, проблема недоедания существовала, но она не была напрямую связана с экспортом. Во-первых, абсолютный прирост производства продовольствия превышал рост его экспорта. «Избытки хлеба покрывали потребности и внутреннего, и внешнего рынков, – подчеркивает Давыдов. – Урожаи главных хлебов в стране продолжали расти, однако доля экспорта в урожае всех главных хлебов, кроме ячменя, уменьшалась (причем иногда в абсолютном выражении)». И уж точно в относительном. Если в 1899–1903 годах экспорт зерна составлял 8,9 % от общего сбора ржи, пшеницы, ячменя и овса, то в 1904—1908-м – 8,2 %, а в 1909–1913 годах – 7,6 %[112]. Во-вторых, как справедливо подмечал специалист по эконометрике Сергей Цирель, «на экспорт шла, в основном, пшеница, слишком дорогая для российской бедноты и специально производимая в количествах, превосходящих спрос на внутреннем рынке (в среднем экспортировалось от 1/3 до 1/2 ее чистого сбора)»[113]. В-третьих, в России была нормальная рыночная экономика, и именно она, а не правительство определяла параметры хлебного рынка и его экспорта. Если бы, пишет Миронов, «в России существовал неудовлетворенный спрос на хлеб, то внутренние цены были бы выше мировых, и русский хлеб не шел бы за границу, а оставался в стране, поскольку речь идет о предмете первой необходимости, обладающем минимальной эластичностью потребления и спроса. В действительности на внешний рынок уходил лишь избыток хлеба, который не находил спроса на внутреннем рынке»[114].
В то же время в неурожайные годы огромные районы переживали вспышки катастрофического голода, уносившего сотни тысяч жизней. Мелкие крестьянские хозяйства были слишком слабыми, слишком близка была грань, за которой оно переставало кормить, особенно если оно хирело, хозяин пил, семья болела и т. д. Голод был локальным и неизбежным, приходил обычно зимой, и массово бежать от него было невозможно. По некоторым данным, в 1901 году от голода скончались 2,8 миллиона человек, в 1905—1908-м – четыре, в 1911 году – один миллион, даже в 1913 году – самом урожайном в дореволюционное время, страна потеряла от недоедания 1,2 млн граждан[115].
Причины недостаточного уровня развития аграрного сектора, что снижало и общеэкономический уровень, заключались в преобладающем типе крестьянского хозяйства, которое представляло из себя «традиционное семейное хозяйство, интегрированное в поземельную общину, слабо втянутое в рыночные отношения, опутанное, как правило, различными видами докапиталистической кабальной эксплуатации»[116]. Понятно, что такие хозяйства, в огромной массе нищие и безлошадные, не были приспособлены к восприятию каких-либо технических новшеств индустриальной цивилизации, типа трактора. Настоящим бичом российского общества стало аграрное перенаселение, число лишних рабочих рук на селе оценивалось в половину от общего количества занятых в сельском хозяйстве.
По-своему цельное и органичное простое, патриархальное сельское общество не могло породить индустриальную революцию, вывести Россию на ведущие позиции в мире. Это хорошо понимали многие государственные руководители России начала XX века – Николай II, Сергей Витте, Петр Столыпин, пытавшиеся силой изменить страну сверху. Попытки реформировать российскую деревню, сломав общину, вызывали довольно бурную ответную реакцию. Более того, «самые серьезные конфликты в сельской местности были спровоцированы “миром” ради того, чтобы защитить устоявшиеся нормы и общинные интересы от внешних угроз – действий должностных лиц либо домохозяйств, пытавшихся действовать вразрез с интересами общины»[117]. Здесь мы действительно должны зафиксировать реакцию социального недовольства на модернизацию.
Больший результат дали меры правительства, нацеленные на распространение сельскохозяйственного образования, оказание технической и агрономической помощи, мелиорацию, облегчение доступа к кредиту, поощрение на селе кустарной промышленности. Этого не могли отрицать даже откровенные критики режима. «Мелкий кредит, ссуды для кооперации, производительной и потребительской, опытные сельскохозяйственные станции, агрономические школы, разъездные инструктора, склады орудий, семян, искусственных удобрений, раздача племенного скота – все это быстро повышало производительность крестьянских полей»[118], – признавала видная деятельница кадетской партии Ариадна Тыркова-Вильямс, проводившая немало времени в родовом селе. В стране существовала и система продовольственной помощи, так называемый «царев паек», который предназначался на помощь голодающим и финансировался из госбюджета.
Как мы еще увидим, власть активно реформировала страну. Но она сталкивалась с огромным сопротивлением всего социального тела, всей российской почвы. Тысячелетние традиции, устои народной культуры, православная вера – все восставало против ценностей неумолимо наступавшей промышленно-городской цивилизации, вязало реформаторов по рукам и ногам.
Россия не хотела меняться. И менялась.
Социум
Для модернизации – превращения общества из сельского в городское, а производства из аграрного в индустриальное, – необходимо было ломать сословные перегородки, менять социальную структуру деревни, переместить из сельского хозяйства в промышленность огромные массы людей. Должны были расти города как генератор среднего класса, субъекта модернизации и творца промышленной революции. Все это шло, но медленно.
Формально российское общество по-прежнему делилось на сословия, которых оставалось четыре: дворянство (1,5 % населения, в том числе потомственного не более 1 %), духовенство (0,5 %), городских (17 %) и сельских (больше 80 %) обывателей. Еще 1 % приходился на армию и 0,2 % – на разночинцев[119]. Существование сословий с различными, порой непересекающимися и даже враждебными субкультурами, с имущественным неравенством друг с другом и внутри себя крайне затрудняло не только формирование среднего класса, но и складывание единой гражданской нации. Тем более что речь шла о многонациональной стране. Впрочем, об уровне неравенства в Российской империи существует явно преувеличенное представление. Подсчеты Бориса Миронова показывают, что в 1901–1904 годах доходы 10 % наиболее обеспеченных людей превышали доходы 10 % самых бедных в 5,8 раза. В тогдашних США этот децильный коэффициент составлял 16–18 раз[120], в современной России – порядка 15.