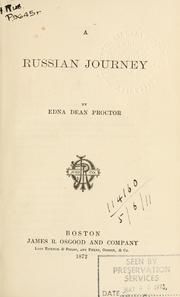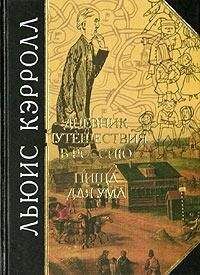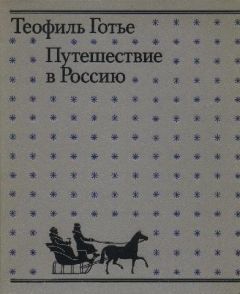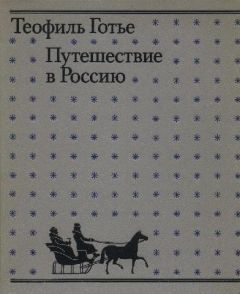Станислав Куняев - Мои печальные победы
А не настораживает ли тебя, мой друг, еще одно обстоятельство? В поэме, изображая московскую панику осени 1941 года, ты пишешь:
Машина нагружена хламом —
Все тащит партийная знать.
Проблема у Сони с Абрамом,
Куда им рояль девать.
Читая эти строки я понимаю твое отношение русского патриота к еврейскому засилью, объективно существовавшему в советской истории, особенно в первые ее два десятилетия, и вообще к «еврейскому вопросу».
Но подумай в связи с этим вот о чем. Ты ненавидишь Сталина и сталинизм, но еще яростнее, нежели ты, эпоху Сталина ненавидит мировая еврейская элита с ее историками, журналистами, пропагандистами. Эта мировая элита тебе мерзка, страшна и отвратительна. Но они все сделали, чтобы в оценке Сталина ты был на ее стороне, поймали тебя в примитивную историческую ловушку. Достойна ли такая позиция русского патриота, историка, поэта? Есть еще время подумать об этом противоречии.
Любовь к Родине и ложь (или неправда) о ее истории не могут жить в согласии. Нелепо в твоем возрасте жить теми же злободневными страстями, которыми ты жил в 1945 году, в фашистских и дипийских лагерях разоренной Европы. Пора в 2003 году прозреть, познакомиться с серьезными историческими исследованиями о прошедшей войне, а не питать свое сердце темными страстями и закоснелой обидой. Вспомни хотя бы о том, что дети стрельцов, казненных твоим любимым Петром на Красной площади, стали верными слугами и помощниками первого русского императора.
Нам ведь, друг мой, скоро встречаться с Высшим Судией. Что мы скажем ему в оправдание своей неразумной и темной любви к России, последнему уделу Божьей Матери?
Твой Станислав Куняев.
2000 г.
P.S. Талантливый русский поэт Игорь Смолянинов, солдат Советской армии, попавший в плен в 1941 году, эмигрировавший после окончания войны в Австралию, умер 16 января 2007 г. в городе Мельбурне. Мир праху его.
В кадре Андрей Тарковский
С Андреем Тарковским я встретился один раз в жизни – в середине шестидесятых годов.
Он пришел со своей киношной компанией в Дом литераторов после триумфального успеха «Андрея Рублева» и каким-то образом мы с Игорем Шкляревским оказались за одним столом с киношниками. Они травили всякие смешные анекдоты из своей жизни. Мы читали стихи. Шампанское лилось рекой.
Ресторан стал закрываться как всегда в то время, когда веселье достигло вершины, и кто-то из съемочной группы Тарковского предложил всем поехать домой, в новую еще не обжитую квартиру на одной из окраин Москвы, чтобы продолжить и свое торжество, и знакомство с поэтами.
А я уже завязал с Тарковским серьезный разговор не только о «Рублеве», но и вообще о кино, разговор, который надо было, по моему разумению, обязательно договорить.
Мы с Игорем втиснулись в одно из двух такси, пойманных на площади Восстания, и помчались по ночной Москве вместе с новыми друзьями в какие-то Черемушки.
В стенах новенькой «хрущобы» спор о кино вспыхнул с удвоенной силой. Я стал поначалу добродушно высмеивать отдельные кадры из фильма, которые показались мне ходульными, исторически нелепыми, неестественными для четырнадцатого русского века.
– Ну, как же у Вас, Андрей Арсеньевич, разговаривают монахи: «Ты мою собаку накормил?» – «А ты меня просил?» – Это же разговор сегодняшних деревенских спившихся мужиков. Да и вообще русский народ в Вашем «Рублеве» грубый, жестокий, невежественный. Если он и был таким – то лишь с сегодняшней точки зрения, и Ваша неприязнь к нему имеет сегодняшнее происхождение. А в те времена подобные нравы были естественными, жизнь другой и быть-то не могла.
В спор ввязался администратор картины – лицо то ли кавказской, то ли семитской национальности – грузное, черноголовое, курчавое. Щупленький Шкляревский, не переносивший крупных людей, сказал ему по поводу его телосложения что-то очень обидное. Тогда вся съемочная группа взбеленилась и на глазах у Тарковского, с молчаливым холодным любопытством взиравшего на ссору, чуть было не перешедшую в потасовку, вытолкала нас взашей на лестничную площадку, пахнущую свежей краской, и дверь за нами с грохотом захлопнулась.
Хмельные и злые, мы очутились на рассветном зябком ветру без копейки денег – черт-те знает где! – вышли на заваленную строительным мусором улицу и стали дожидаться какой-нибудь машины.
Вспоминаю, что кроме оскорбления, нанесенного Шкляревским директору картины, еще одной крупной каплей, переполнившей терпение друзей Тарковского, было обвинение в том, что на съемках они сожгли корову.
– Потому-то и с молоком в магазинах перебои! – зло пошутил я. Этого ребята не выдержали. Но и помимо всего – фильм Андрея при всей блистательности внешних съемок раздражал меня чем-то глубинным, что не так просто было выразить, хотя я и пытался это сделать.
Запомнилась мне эта ночь еще и тем, что когда мы все-таки остановили старенький «москвич», сели, и шофер во время одного из крутых поворотов не снизил скорость, колеса заскрежетали, дверь машины резко распахнулась, и задремавший Шкляревский почти было вылетел на обочину, если бы я в последнее мгновенье не ухватил его за куртку…
А фильм «Андрей Рублев» через год-другой после этой бурной ночи я посмотрел еще раз и вскоре записал в свой литературный дневник все, что начал говорить Тарковскому, но не закончил. Вот они, эти мысли.
«Богатые старики в Японии, чтобы почувствовать себя молодыми и разогнать в жилах старческую кровь, скидываются и устраивают время от времени для себя дорогое зрелище. Они нанимают молодую пару за хорошие деньги, чтобы поглядеть на секс не в кино, а в жизни. Наверное, так же в Средние Века, чтобы поволноваться и попереживать, толпы благонамеренных европейских бюргеров наблюдали смертную казнь или Аутодафе…
Когда мы смотрим в кино акт соития или казни – мы похожи на этих старых японцев или средневековых испанцев: испытываем внезапное волнение, ужас, отвращение, сладострастие и т. д. в гораздо более сильной степени, нежели читаем внешне подобные сцены – у Пушкина, у Толстого, у Бунина, у Шолохова.
Вот почему я разлюбил «самое массовое искусство – кино».
Перестал выстаивать очереди за билетами, перестал запоминать фамилии актеров и режиссеров. Видимо, потому что с годами мне открылось некое хищничество этого жанра. Кино высасывает из человека за один прием все его чувства своим внешним жизнеподобием, своим ошарашивающим давлением на зрителя за короткое спрессованное время – за полтора-два часа. Зрительные ощущения (все как в жизни!) вообще очень сильны. Власть у них недолгая, но захватывающая и полная. Как человек может хищнически в короткий срок при желании истощить кусок земли и превратить его в пустыню, перейдя пределы возможного во имя своего беспечного торжества, точно так же и кино совершает похожее насилие над человеком. Со словом можно спорить, жить, договариваться, вчитываться в него, ощущать себя его создателем, растворяться в нем, а кино создано для одноразового употребления. Его главный принцип: хоть час – да мой! Великую книгу можно перечитывать много раз, с каждым разом открывая для себя все большие ее глубины. Кино же – если смотреть его второй, третий, четвертый раз – производит на тебя все меньшее впечатление, ибо оно запрограммировано на впечатление первое и окончательное.
В кино все разрешено. Попробуйте описать убийство или самый интимнейший акт. С каким бы натурализмом вы это ни сделали – слово все равно поставит вам пределы. Оно сопротивляется откровенному и сознательному бесчеловечию. Кино же лишено целомудрия. В слове есть тайна, в кинокадре ее нет. Читая что-либо, человек может воспринимать прочитанное в меру своего душевного опыта, соразмеряя количество своих чувств с волей автора, руководствуясь своим опытом и своим инстинктом самосохранения души. В слове он воспринимает столько, сколько может вместить. В кино он должен вместить все. Иначе надо закрывать глаза – а что делать с закрытыми глазами в кинозале?
По своим целям и темам кино может быть и нравственным, и человечным, и благородным, но это искусство безгранично в своих агрессивных чувственных возможностях, и в силу их могущества его диктаторское требование эмоций объективно выглядит безнравственным. Зритель безоружен перед ним, и велик соблазн использовать эту безоружность. Но за это человеческая природа по-своему, как умеет, мстит киноискусству. Я чувствую эту месть в своем нарастающем равнодушии к кино. О кино я вспоминаю только тогда, когда о нем заходит специальный разговор. Чтобы так, сами по себе выплыли кадры, отрывки, эпизоды, как выплывают строки стихотворений или мотивы песен – этого со мной не бывает. Никакие – даже самые лучшие фильмы, – которыми я когда-то был потрясен, восхищен, ошарашен, не стали частью моего душевного мира. Есть какая-то роковая несовместимость души и кино. В соответствующем расположении духа человек может раскрыть книгу Блока и Есенина, пойти в театр на «Гамлета», запеть «Позарастали стежки-дорожки», или «Утро туманное…». Но призвать себе на помощь кадры из Бергмана, Феллини или Тарковского он не может.