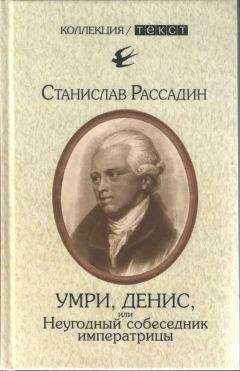Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
«Они, — сказано было о еретиках, — убивают души людей, в то время как власти только подвергают пыткам их тела; они вызывают вечную смерть, а потом жалуются, когда власти осуждают их на временную смерть».
Сказано самим блаженным Августином, полагавшим, конечно, совершенно всерьез, что наказание за ересь — «акт любви», и если имя его, очутившись, признаемся, в нежданном соседстве, этим соседством оскорблено и буффонно снижено, то потому лишь, что искренняя, простодушная вера в свое право распоряжаться судьбою и жизнью ближнего, всегда оставаясь собою, имеет множество разновидностей и оттенков: от убежденного фанатизма до убежденной безнравственности.
Простодушие вообще — не достоинство, а пока только предпосылка.
…«Средние люди» Зощенко или Эрдмана — не злодеи, даже если творят зло; куда им? Они пусть и не взывают к жалости, но достойны ее. В этом смысле их создатели — сами порождения гуманнейшей из литератур… Да, впрочем, и плацдарм, на котором действуют эти герои, коммунальные кухни и коммунхозовские подотделы, те ли это места, где способны родиться и, главное, развернуться Макбеты и Ричарды?
Что до Булгакова, то он, со страхом и яростью разглядевший вплотную Полиграфа Полиграфовича Шарикова, не предоставил ему, как говорится ныне, режима наибольшего благоприятствования.
Как известно, Горький, обрадованно встретив булгаковскую повесть «Роковые яйца», посетовал, тем не менее, что «поход пресмыкающихся на Москву не использован». В «Собачьем сердце» злости с лихвой хватило, однако новый поход нового пресмыкающегося по тем или иным соображениям также был насильственно прерван. Рукою хирурга и волей писателя. Что ж, тем любопытнее из нашего исторического далека всматриваться в еще одного, задолго всем им предшествовавшего «всегда готового» обладателя «дара утешаться», то есть дара универсального приспосабливания и превращения, который, может быть, и бывает свойством не только индивидуума, но целых социальных групп. Изучать — отнюдь не как раритет и анахронизм — деятеля, чей мозг (вспомним зощенковские слова) «как бы не помнит ничего другого, кроме того, что есть. Он имеет короткую реакцию». И оттого живуч до непобедимости… Словом, все его же, неисчерпаемого Ивана Антоновича Расплюева.
Уж для него-то автор не пожалел, не урезал простора, дабы размахнуться душой: «Всю Россию потребуем…»
Шляпа набок
Безыллюзорность — не всегда то, чем следует гордиться, как скепсис — еще вовсе не ум. Склонность к «возвышающему обману», то есть самообману, может свидетельствовать — и нередко свидетельствует — о высокой доверчивости души. Даже о мудрости, которая знает или догадывается, что самый проницательный разум способен постичь не все, а если есть нечто непостижимое, отчего бы иной раз не предположить наивно, что и невозможное может стать возможным?..
Судьба Сухово-Кобылина, историческая и личная, определила пронзительную, горькую трезвость его огромного ума. Определила — поставила, значит, пределы (поворошим этимологию), не допустив его разум и душу в иные глубины, оказавшиеся доступными иным великим русским писателям, но уж взамен наделила редкостной, уникальной, да и просто ни с кем, кроме, может быть, Щедрина, не сравнимой способностью разоблачать. Не в том критически-обиходном смысле, когда разоблачительной называют любую нелицеприятную заметку, но — вновь обратимся к этимологии — именно разоблачать, снимать или сдирать с человека или явления слой за слоем, пока не объявится напоказ бесстыдно и беспощадно голая суть.
В «Смерти Тарелкина» среди доведенных до наготы раз-облачений есть одно, чрезвычайное даже для Александра Васильевича.
Чрезвычайно оно потому, что это сосед и собрат по сословию, а значит, и по исторической судьбе, получивший — от человека, весьма гордившегося и родом своим, и титулом землевладельца, да и по характеру не склонного забывать, кто он таков и кто таковы «они», — позорную кличку. Такую, которой скорее бы мог наградить помещика язвящий дворян писатель из разночинцев: Чванкин.
И заслуженность клички опозоренный ею персонаж доказывает что есть силы.
«Чванкин (входит с большим форсом). Что это, а? а? Скажите, скажите мне, кто здесь командует?
Расплюев. Господин частный пристав.
Чванкин (ходит). А! — частный пристав — частный пристав — а как он смел, частный пристав, меня беспокоить, а? как он смел?
Расплюев. Да вот извольте объясниться с ними. (Указывает на Оха.)
Чванкин (запальчиво). Нет, я спрашиваю; как же он смел? Да знает ли он, кто я? а? Да я… я сам власть имею, а? — Я помещик Чванкин!!. Да у меня в Саратовской губернии двести душ! — да у меня в Симбирской губернии двести душ! — Да у меня черт знает где черт знает сколько душ! Да я… Да он… (Ходит по комнате и колотит по столам.)
Расплюев (Оху). Что прикажете тут делать? — Ничего не сообразишь.
Ох (подмаргивая Расплюеву). Попроси их в темную.
Расплюев. Можно?
Ох. Можно. (Ванечке.) Пиши постановление, знаешь — там — по форме, сбивчивость речей… нечто тяготящее душу и прочее.
Чванкин (вдруг повертывается к Расплюеву). Чью душу? Говорите, чью? — мою? Так знайте, что у меня в Саратовской губернии триста душ, да у меня в Симбирской губ…
Расплюев (Качале и Шатале). Ну-тка в темную!
(Мушкатеры подхватывают Чванкина под руки.)
Чванкин (кричит). Как в темную?!. Стой! Вы! — Эй! Стой! Зачем?.. Я протестую (болтая ногами по воздуху), я адрес!!. У подножия престола… я у подножия. (Его голос замолкает в коридоре.)»
Все. Пока — все.
Легко догадаться, даже и не зная текста, что при втором (и последнем) появлении в пьесе форсистого Чванкина с ним произойдет, как говаривал Александр Васильевич, «метаморфоз». И в то же время…
— Я протестую… У подножия престола… я у подножия…
Это, стало быть, он, Чванкин, — но где мы уже слыхали нечто почти неотличимое?
Конечно, в драме «Дело»:
— Я требую… ведите меня к моему государю!.. к государю!!.
Так кричал Петр Константинович Муромский, и тогда это было страшно. Чванкин — совсем иное, в своей чванливости он смешон; однако не слишком ли, спросим себя, смешон?
Кичиться душами и поместьями (и перед кем? Перед полицейской сволочью!) — глупо и недостойно, согласен, но, как ни крути, эта кичливость есть в данном случае хоть и пошлейшая, но форма самозащиты от произвола. Та, что могла бы, глядишь, и подействовать, — спросил же Расплюев, возможно, и оробев сперва: «Можно?» И та, что родственна, да, по сути, опять же неотличима от гонористости Атуевой, возроптавшей на уверения Тарелкина, будто она, дескать, попавши в приемную к министру, не посмеет присесть иначе, как на самый краешек стула:
— Я и во весь стул сяду. Я не экономка какая. Мой отец с Суворовым Альпийские горы переходил.
Ведь тогда-то мы были на стороне Анны Антоновны перед дикой бюрократической логикой, хотя и она, то бишь Атуева, не светоч ума и не образец отменного вкуса. А тут… Да каков бы ни был этот Чванкин, обороняется-то он от Оха с Расплюевым, от мерзавцев, представляющих силу поистине страшную!
Снова Сухово-Кобылин озадачивает нас парадоксом.
Что это? Безжалостные законы несентиментального фарса, не позволившие нам рассиропиться и перед бедственным положением дворника Пахомова?
Да, и они тоже, и законы. Но Пахомова нам не дали пожалеть. Всего только не дали, оставивши нас сердечно безучастными. Что же до Чванкина, здесь в самую пору злорадствовать. Так, мол, тебе и надо. Получи! А коли злорадствуем, то, выходит, мы с вами одобрили — или полуодобрили — беззаконие?
Но не будем к себе чересчур придирчивы. Мы не вольны. Злорадства жестко хочет от нас сам автор. Помещик Сухово-Кобылин не намерен прощать помещику Чванкину потери достоинства, с презрительной твердостью зная: у него, у такого, кишка слаба.
И в этом его объективность. Его справедливость, как ни странно выглядят оба эти понятия, примененные к фарсу, к буффонаде, к гротеску, которым, уж разумеется, не до того, чтобы взвешивать добродетель, порок и воздаяние им на фунты и тем более на золотники; чья насмешливость огульна, чей размах не способен и не обязан церемонно соразмеряться с оттенками и полуоттенками.
Тем не менее…
Но отвлечемся — ненадолго и неспроста — от «Смерти Тарелкина».
Девятого апреля 1886 года почти семидесятилетний Сухово-Кобылин напишет сестре Евдокии, Душе, как ему привелось среди прочих представиться Александру III (писано по-французски):
«В половине второго показался император. Он очень высок, очень тучен, много тучнее Исидора (графа Фальтана, мужа сухово-кобылинской дочери Луизы, прижитой Александром Васильевичем с Надеждой Нарышкиной. — Ст. Р.). Он держится спокойно, вежливо и с достоинством; он говорит медленно и очень тихо… Он подал мне руку (как предыдущим). Ваше величество, — сказал я ему, — я хочу поблагодарить вас за две милости. Недавно вы милостиво разрешили мне усыновить мою дочь. Это было началом моего семейного счастья, которое больше всякого другого счастья. — Император сказал мне с большой теплотой — я помню. Ваше величество, — сказал я ему, — это благодеяние принесло плоды (он взглянул на меня), моя дочь вышла замуж по сердечному выбору за прекрасного человека и хорошего солдата, он носит старое имя, он служит своей родине (Франции. — Ст. Р.) и сражался за нее, он принимал участие в кавалерийской атаке под предводительством маркиза де Галифе (император сказал: я это помню) — под ним была убита лошадь, и он был взят в плен на поле битвы; император спросил меня, в отставке ли он. Прошу прощенья у вашего величества — он все еще служит — он капитан, командует 6-м полком, и в настоящее время он у меня. (Скоро граф Исидор Фальтан умрет, и Луиза больше не разлучится с отцом. — Ст. Р.) — Вы пишете пьесу? — Я пишу, но на научные темы. — А почему не пьесу для театра? — Ваше величество, — ответил я ему, — этот род искусства требует много свежести ума и воображения, а я в том возрасте, когда эти качества исчезают. — Вы никогда не служили? — Прошу прощенья: я служил 11 лет почетным мировым судьей… (не могу вспомнить, как это вышло), но в конце я сказал, что вся моя семья преисполнена чувством глубочайшей признательности и что, наверное, в России нет дома, где бы его имя было более дорого и священно, чем в моем старом доме».