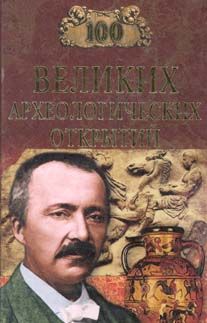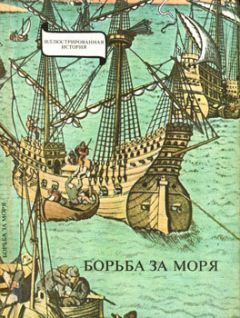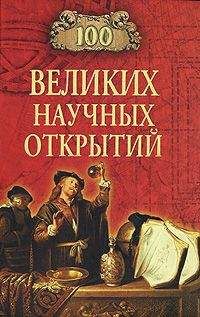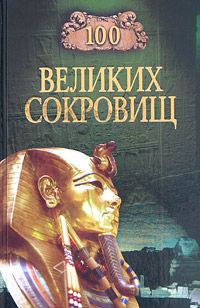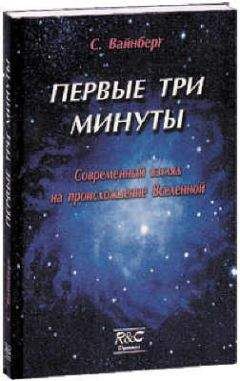Андрей Низовский - 100 великих археологических открытий
Первую попытку проникнуть в тайны Мангазеи предпринял в августе 1914 года И.Н. Шухов, биолог из Омска. Путешествуя по реке Таз, он побывал на Мангазейском городище и произвел здесь первые раскопки, «В настоящее время, – писал он, – от города Мангазеи остались лишь одни развалины. На берегу торчат бревна построек, нижние оклады зданий, тянущихся вдоль высокого обвалившегося берега до ручья. Сохранилось едва только одно строение, – судя по архитектуре, башня… Место, где была Мангазея, кочковатое, поросшее сорной травой и кустарниками. Берег обваливается и остаются мелкие предметы, как стрелы и ножи. Я нашел наконечник стрелы».
Первыми археологами, побывавшими на руинах Мангазеи, были В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская. Осенью 1946 года они с большими трудностями добрались до городища. Сезон раскопок к тому времени уже подходил к концу, и ученые ограничились лишь составлением полевой карты и сбором подъемного материала – преимущественно керамики и обломков различных предметов. Это не помешало В.Н. Чернецову впервые во всеуслышание заявить, что «Мангазея не являлась… лишь военно-торговым форпостом. Это было прочно обжитое место». Но окончательно разрешить загадки Мангазеи могли только планомерные раскопки. Они начались в 1968 году и продолжались на протяжении четырех полевых сезонов. Раскопки Мангазеи вела археологическая экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского института под руководством М.И. Белова, в состав которой входили сотрудники Института археологии АН СССР О.В. Освянников и В.Ф. Старков.
Приход археологов оказался весьма своевременен: оказалось, что река размывает городище Мангазеи и оно быстрыми темпами разрушается. Об этом свидетельствовали торчавшие из обрывов берега остатки деревянных сооружений, многочисленные предметы, усеивавшие песчаную кромку. По оценкам специалистов, к 1968 году погибло уже около 25–30 % территории памятника.
Раскопки Мангазеи представляют собой случай во многом уникальный. Подобного рода масштабные археологические исследования позднесредневекового города не проводились пока более нигде в мире. Как и в Старой Рязани, археологам здесь не мешала никакая поздняя застройка, а заполярная мерзлота, хотя и затрудняла раскопки, тем не менее способствовала хорошей сохранности деревянных сооружений и изделий, предметов из кожи и ткани. При этом характерной чертой памятника является кратковременность и строго очерченные рамки его существования – 1570-е—1670-е годы. Все это создавало исключительные с точки зрения археологии условия для детального изучения древней Мангазеи.
Археологи вскрыли и исследовали около 15 тыс. кв. м Мангазейского городища. Были обнаружены и исследованы остатки древних оборонительных сооружений и около сорока построек самого различного – жилого, хозяйственного, административного, торгового и культового – назначения.
Раскопки показали, что Мангазея имела типичное для древнерусских городов деление на собственно город (кремль) и посад. Особенно интенсивно город рос и застраивался в 1607–1629 годах. В это время Мангазея приобрела те особые черты сибирского «непашенного» города, которые позволяют поставить его в один ряд с такими крупными городами тех лет, как Тобольск, Тюмень и другие. «Мангазея впитала в себя все новое и лучшее, что знало русское зодчество на рубеже XVI–XVII вв.»16.
В 1625 году общая протяженность стен Мангазейского кремля по периметру составляла около 280 м. По углам стояло четыре глухих башни: Давыдовская, Зубцовская, Ратиловская и Успенская. На южной стороне, между Зубцовской и Успенской башнями, находилась Спасская проезжая башня, достигавшая в высоту 12 м. Самой маленькой была Ратиловская башня – 8 м, а самой массивной – Давыдовская, каждая из сторон которой имела длину около 9 м. Все башни были четырехугольными. Наибольшую высоту крепостная стена достигала на участке между Давыдовской и Ратиловской башнями – около 10 м; остальные стены имели высоту в 5–6 м.
Треть территории кремля (800 кв. м) занимал комплекс воеводского двора. Его раскопки дали археологам огромное количество предметов быта XVII века – туеса из бересты, железные дужки от ведер, подсвечники, топоры, ножи с орнаментированными рукоятками, сверла, зубила, долота, замки различных размеров, буравы, пробои, дверные засовы, петли, щеколды, деревянные ложки, тарелки, миски, ковши, ушаты, коромысла, черпаки, вальки, формы для печенья, короба, ларчики. Некоторые из этих предметов художественно оформлены. Например, форма для пряников вырезана в виде рыбы с большими плавниками. На одной из ложек ножом вырезана надпись: «Степа». Интересна находка оконной рамы размерами 29 × 29 см – такие маленькие «оконницы» характерны для XVII столетия. В раме сохранились значительные фрагменты слюды. Обнаружено несколько щипцов, с помощью которых снимался нагар со свеч и лучин. Найдены даже предметы мебели – небольшие лавки-скамейки для горниц и массивное широкое кресло.
Находка конской сбруи – колокольчиков, бубенчиков и седла, а также наличие в нижних слоях сеней довольно толстого слоя навоза говорят о том, что воеводский двор располагал некоторым количеством лошадей и, вероятно, мелким скотом. Отличные пастбища и сенные покосы располагались непосредственно за городом, так что содержание незначительного количества скота не представляло большой трудности.
Основным транспортным средством для связи с зимовьями и переездов на более далекие расстояния являлись нарты с оленьими упряжками. В документах XVII столетия отмечается, что в зимнее время на путь между Мангазеей и Туруханском уходило три дня. При раскопах воеводского двора археологи нашли крупные фрагменты самих нарт, тяги от упряжи, костяные накладки на упряжь, часто имеющие орнамент. Вообще косторезное ремесло, судя по всему, было широко развито в Мангазее. Даже дворовые люди, жившие на воеводской усадьбе, занимались изготовлением костяных поделок из мамонтовой кости. Археологи нашли незавершенные детали – отпиленные для работы куски бивней мамонтов, поделки из бычьего и коровьего рога, медвежьих клыков, пластины из перепиленных надвое оленьих рогов для отбивания приставшего к сапогам снега. В ходу было изготовление женских бус. Были найдены костяные скребки и другие инструменты для выделки кожи из звериных шкур, костяные иглы.
Домашний характер носило и литейное ремесло. Судя по находкам плавильной ложки и каменных формочек для литья, здешние умельцы отливали небольшие изделия, главным образом нательные крестики и женские украшения. Находки фрагментов музыкальных инструментов подтверждают свидетельства документов XVII века о том, что молодежь в семьях воевод обучалась игре на музыкальных инструментах и пению. Находка застежек от книг и кожаных переплетов с красивым тисненым рисунком указывает на то, что у воевод имелись домашние библиотечки. На одном из переплетов оттиснуто покрытое золотом изображение женщины с лютней, а рядом с нею – олень.
Помимо книг и музыки обитатели воеводского двора, вероятно, любили коротать время за различными настольными играми. Археологами обнаружено несколько деревянных шахматных фигур, две отлично выполненных шахматных доски. На оборотной стороне одной из них вырезаны знаки зодиака и звезды. Найдены детали какой-то не совсем понятной игры – небольшие костяные пластинки, на каждой из которых имеется определенное количество кружков – от 6 до 3. Возможно, это домино.
К востоку от воеводского двора, в самом центре крепости, стояла срубленная из кедра соборная Троицкая церковь. Ее точное время закладки неизвестно, но из письменных источников следует, что в 1603 году она уже или существовала, или, по крайней мере, была заложена. Эта церковь сгорела в 1642 году, после чего в начале 50-х годов XVII века (а согласно дендрохронологическаму анализу найденных остатков церкви – в 1654–1655 гг.) была срублена новая.
Новый храм воздвигался строго по плану старого. Основание здания занимало 550 кв. м. Данные раскопок и изображение Мангазеи на карте Исаака Массы (1609 г.) позволили специалистам реконструировать архитектуру Троицкой церкви.
При зачистке постройки в районе алтаря были обнаружены несколько захоронений. В двух погребениях находились останки грудных детей, в третьем – девочка 12 лет. В юго-восточном углу церкви археологи нашли еще три могилы: женщины 27 лет и двух мужчин, 35 и 36 лет. Факт погребения в соборной церкви свидетельствовал о том, что речь идет о людях знатного происхождения.
Кто эти люди? Исследователи связывают погребения в Троицкой церкви с трагической судьбой семейства мангазейского воеводы Григория Теряева. Пробиваясь осенью и зимой 1643/44 года с караваном хлеба в отрезанную от Большой земли Мангазею, он потерял 70 человек из своего отряда и уже, находясь в одном переходе от города, скончался сам. Вместе с Теряевым в Мангазею ехали его жена, две дочери и племянница. Они также не вынесли тягот этого неимоверного тяжелого похода. Вероятнее всего, именно их останки были обнаружены под полом Троицкой церкви, а в еще одном мужском погребении был похоронен, очевидно, кто-то из близких сотрудников погибшего воеводы.