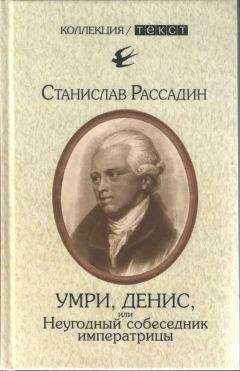Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
— Но ежели брать это прилипчивое звание — «маленький человек» — не как словно бы уже заключенный в нем самом призыв жалеть, помогать и спасать, а как безэмоциональное обозначение определенного (хотя — определенного ли?) общественного слоя, разнородного по имущественному положению или происхождению, но сплоченного ощущением собственной шаткости, зыбкости, нравственной и социальной качательности, то куда же, как не к Башмачкиным, Поприщиным, Девушкиным и Мармеладовым, и приткнуть нашего Ивана Антоновича? И кем продолжить его литературную и историческую судьбу, если не персонажами Зощенко, Эрдмана, булгаковским Шариковым? Людьми, которые, как и он, ни то ни се или — и то и се. Людьми без твердой опоры, без определенного места — тем более рьяно ищущими его, не находящими, однако уж если найдут, если им повезет, как Расплюеву, то…
У новейших, так сказать, послесухово-кобылинских исследователей «маленького» или «среднего» человека он воскрешен, тревожно и трезво, в своей пугающей или, по меньшей мере, предостерегающей двоякости. Порою клонящейся к тому, чтобы героя — все-таки, несмотря ни на что, вопреки многому и многому, — пожалеть, и вот, скажем, эрдмановский «самоубийца» Семен Семеныч Подсекальников (кстати, герой пьесы, откровенно и безбоязненно зависящей от «Смерти Тарелкина», от ее сюжета, от поэтики ее) то является в жалчайшем виде, способном вызвать гадливость, то возвышает свой страдающий шепот до трагического — да, да! — пафоса. Существо, стопроцентно заслуживающее названия, превращенного нами в презрительную кличку, «обыватель», вдруг заявляет о своем — пусть весьма и весьма своеобразном — чувстве достоинства, о своем — пусть униженно понимаемом — человеческом праве.
«Но ведь вы же хотели покончить с собой? — станут допытываться у Подсекальникова разного рода мазурики, вознамерившиеся обернуть для себя корыстью его смерть. — Разве вы нам об этом не говорили?» И бедный Семен Семеныч ответит:
— Говорил. Потому что мысль о самоубийстве скрашивала мою жизнь. Мою скверную жизнь. Нет, вы сами подумайте только, товарищи: жил человек, был человек, и вдруг человека разжаловали. А за что? Разве я убежал от Октябрьской революции? Весь Октябрь я из дому не выходил. У меня есть свидетели. Вот я стою перед вами, в массе разжалованный человек, и хочу говорить со своей революцией. «Что ты хочешь? Чего я не отдал тебе, Революция, правую руку свою — и она голосует теперь против меня. Что же ты мне дала за это, Революция? Ничего. А другим? Посмотрите в соседние улицы — вон она им какое приданое принесла. Почему же меня обделили, товарищи? Даже тогда, когда наше правительство расклеивает воззвания «Всем, всем, всем» — даже тогда я не читаю этого, потому что я знаю — всем, но не мне. А прошу я немногого. Все строительство ваше, все достижения, мировые пожары, завоевания, все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалованье».
И еще:
— Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам тогда легче жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну, хотя бы вот так, шепотом — «нам трудно жить». Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкой даже его не услышите. Уверяю вас.
Смешно? Конечно; на то и комедия, а не «Бедные люди» с Девушкиным, не «Преступление и наказание» с Мармеладовыми. Пошло? Пожалуй. Ничтожно?.. Но нет. Зачислить этого, ведь и вправду многомиллионного человека в разряд ничтожеств, с коими можно (а то и должно) не считаться, как раз и значит по-сталински отступить от гуманистического посыла революции.
Но это — Эрдман, преодолевший и переросший свой первоначальный замысел, который, очень возможно, не взлетал выше обличения, в том числе — обличения «обывателя». Порою же само по себе отсутствие почвы, этот источник несчастий всех былых Мармеладовых, агрессивно представлено как патент на первородство, на чистоту крови, на благородство происхождения, не меньше того!
«Филипп Филиппович умолк…
— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он… — Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?
— Что ж ему говорить… Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.
— Чьи интересы, позвольте осведомиться?
— Известно чьи — трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
— Почему же вы — труженик?
— Да уж известно — не нэпман».
Вот! Это — самосознание самоутверждающегося люмпена, которому вполне достаточно того, что он ни то ни се, поистине «ничто», дабы заявить свое право стать «всем». Шариков — не нэпман, о да; кто посмеет это оспорить? И лишь потому — по его логике, заставившей озадаченно примолкнуть даже профессора Филиппа Филипповича Преображенского, — он «трудовой элемент». Он — новорожденный вакуум, социально держащийся не наличием качеств, а их отсутствием.
Использовав возможности фантастического сюжета, Булгаков буквально материализовал пресловутое «ни то ни се», этот общественный пробел, размахнув амплитуду качательности от милейшего пса до невообразимого пакостника с собачьим… э, нет, не так! То-то и оно, что не так! «Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!» А своеобразнейший хэппи энд повести — в том, что «заведующий подотделом очистки Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ» Полиграф Полиграфович Шариков вновь возвращен в лоно природы, в состояние «ничего», где он, освобожденный от необходимости отвоевывать место в человеческом мире, опять обращается в пса-милягу, ничуть не раздражающего нас воинственными претензиями.
Хэппи энд есть хэппи энд, и, в согласии с ним, рука экспериментатора — уже не хирурга Преображенского, а писателя Булгакова — навела порядок во вздыбившейся жизни, не дав возможности (по крайней мере, в повести) свершиться ужаснейшему. Вернее, отсрочив это ужаснейшее. Именно то, что сам профессор предвидел с отчетливостью, заставляющей предполагать, что его политическая наивность — мнима:
«— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!
— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки».
Да, у Полиграфа Полиграфовича (между прочим, тоже из разряда оборотней, даром что оборотился он не путем колдовства, но путем науки) прямой и ближайший путь в Швондеры, в «идеологи», а потом дальше Швондера, ибо и этот крутолобый болван вскоре окажется перед чистопородным преемником кем-то вроде растерянного интеллигента. И именно по той причине, что любую, говоря зощенковским языком, «центральную идею» Шариков «всегда готов» низвести до своего уровня и обратить на практическую пользу себе, — гарантией этого будет бездумный автоматизм, с каким он эту идею воспримет, становясь в реальной нашей действительности материалом и опорой худшего, что произойдет в стране за долгие годы. Возникая в роли то специалиста по раскулачиванию, стригущего под ноль, режущего по живому, то глашатая предвоенного шапкозакидательства, то идеального исполнителя бюрократических инструкций, то носителя якобы «национального духа», выраженного в презрении и ненависти к чужому, то… Мало ли у него, такого легкого на подъем, воплощений?
…Автор этой книги испытывает сильнейший соблазн (которому, поразмыслив, решил тем не менее не уступать — ради цельности): не откладывая, дотошно проследить весь дальнейший путь расплюевщины, которая не уже обломовщины или хлестаковщины, — кстати, как помним, так ведь и было когда-то сказано: «Расплюев везде, как везде Хлестаков». У этой, если угодно, общественной болезни долгая, вовсе еще не кончившаяся история; у нее очень различные симптомы, и заражает она собою весьма разные слои общества. Даже такие, куда ход ей, казалось бы, запрещен изначально, навечно и намертво, ибо уж они-то по самой своей природе были неотрывны от породившей и крепко держащей их родной почвы (почвы в неметафорическом, но самом буквальном смысле слова) или от твердого нравственного стержня, чья твердость определена традиционно преследуемой целью, даже миссией. Да что говорить в общих словах, если они перед нами в живой своей конкретности, в том числе художественно воплощенной: мужики из книг Федора Абрамова, разлюбившие мужицкий труд, переставшие его уважать (а вернее и горше сказать, обездоленные теми, кто это уважение у них отнял); «архаровцы» из распутинского «Пожара»; полугорожане-полукрестьяне, ни то ни се, ранящие душу Евгения Носова; трифоновские интеллигенты, то есть давно уже полуинтеллигенты, псевдоинтеллигенты, не интеллигенты…