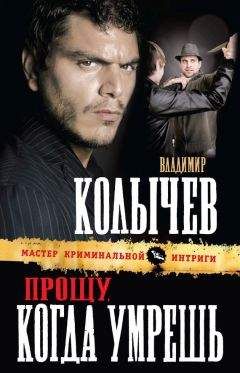Тимофей Докшицер - Трубач на коне
Младший брат мой, Абраша, 1925 года рождения, был одаренным музыкантом. Он тоже учился в ЦМШ у профессора М.И.Табакова и увлекался, композицией. По общеобразовательным предметам он учился в одной группе с Леонидом Коганом и Юлием Ситковецким. Несмотря на детский возраст - ему было 16 лет - Абраша начал играть в оркестре театра Моссовета, Осенью 1941 года вместе с театром эвакуировался в Среднюю Азию, не помню, то ли в Чимкент, то ли в Ташкент. Когда в 1943 году ему пришло время призываться в армию, я попросил начальника нашего оркестра Г.Запорожца взять его к нам. Получив согласие, написал Абраше, чтобы он ехал в Москву. Но что значит во время войны молодому человеку призывного возраста проехать полстраны с юга на север? Из города Чкалова, теперь, кажется, Оренбург, он прислал телеграмму: "Поезда высадили, пришли деньги". Послал до востребования денег сколько имел, но ответа от него не получил. По моей просьбе мой товарищ по оркестру, скрипач Самуил Кит, ехавший в командировку через Чкалов, интересовался судьбой моего брата в военной комендатуре, на вокзале... Остается только предположить, что его приняли за дезертира, скрывающегося от военной службы, и отправили на фронт в составе штрафного батальона, как это обычно делали, где он был сразу же убит. Абраша не был пригоден к строевой службе - он был близоруким и носил очки со сложными линзами.
Мы все, особенно мама, всю жизнь ждали его. Искали, наводили справки в армейских архивах, но нам неизменно отвечали: "Считается без вести пропавшим".
Абраша играл на трубе "Циммерман", которая была собственностью консерватории. После окончания войны, когда консерватория вернулась из Саратова в Москву, с отца, как гаранта несовершеннолетнего учащегося, потребовали возместить стоимость трубы погибшего сына...
Моя семья
Еще до поступления в Большой театр я женился на девушке, с которой познакомился за гол до начала войны. Фаина Семеновна Хавкша тоже была студенткой училища Гнесиных.
Обладательница звонкого сопрано, она выступала в самодеятельных концертах города Кольчуги на Ивановской области и оттуда была рекомендована в училище как перспективная певица. С начального периода обучения ей стали "ставить" голос, менять дыхание и заучили так, что она вовсе потеряла былую уверенность и стала бояться выходить на сцену. С началом войны занятия были прекращены. Фаину эвакуировали в Горький. Я же остался служить в Москве. Более трех лет мы были разлучены, но почти ежедневно писали друг другу письма. А когда в начале 1945 года Фаина вернулась в Москву, мы стали мужем и женой. Жилья у нас не было, ютились то у знакомых, то у моих родителей, одно время снимали угол в общей квартире. Когда мое положение в Большом театре укрепилось, нам предоставили крохотную комнатушку в театральном доме в Щепкинском переулке, что позади театра. Мы были счастливы.
4 сентября 1948 года у нас родился сын Сергей, Он оказался единственным ребенком. Фаина была очень преданным мне человеком, с необычайно тревожной натурой. Она окончила Московский институт иностранных языков, хорошо знала английский язык, успешно работала в школе. Но неуверенность в себе была чертой ее характера, ей все казалось, что она малоквалифицированный педагог. Часто болела - результат двух неудачных родов, и работу в школе пришлось оставить.
Наследственность Фаининой семьи была фатальной, словно весь их род был обречен на вымирание. Ее отец умер молодым, родной брат Яков не дожил до 59 лет. Его сын Борис умер в 40 лет, Фаина умерла в 49. Судьба продолжала косить род...
Мы захоронили урну с прахом Фаины на кладбище Московского крематория. На двухметровом гранитном камне был высечен глубокий рельеф с изображением склоненной женской головы.
Художником, создавшим этот образ, была известная московская керамистка Монна Яновна Рачгус. Общие заботы и общая работа над памятником постепенно сблизили нас, Мы еще много дней провели на могиле, пока не была закончена скульптура и не установлен памятник. Знакомство с талантливым художником незаметно переросло в привязанность, а спустя два года мы с Монной роженились.
Моя семья продол жал а быть мне главной опорой и поддержкой. У сына Сергея сложилась вполне счастливая семейная жизнь. Его жена Ирина родила дочку, которую назвали Анной.
Счастливые родители растили любимое чадо. Отец обожал дочь. Мы с Монной и Сергей с семьей вместе проводили летние месяцы в Портновской, на подмосковной даче, выстроенной в прибалтийском стиле по проекту Монны Яновны. Дедушка с бабушкой выгуливали и баловали внучку, которой на одиннадцатом году жизни неожиданно суждено было стать сиротой, а ее маме - вдовой. Теперь Ирина с Аннушкой уехали в Америку и по-прежнему вдвоем проживают в Нью- Йорке.
Моя вторая жена, Монна Яновна, литовка по происхождению, родилась и училась в России.
Как и я, она сформировалась как творческая личность на русской культуре. Окончила Московский институт прикладного и декоративного искусства и стала заниматься керамикой. До этого мечтала стать актрисой и даже год проучилась в студии Ю.Завадского.
Мы с женой стали друзьями и по искусству, наши творческие профессии в чем-то привели к взаимовлиянию. В керамике Монны появились музыкальные сюжеты (она занималась керамикой художественной, а не бытовой): "Полифония Баха" с изображением элементов органа, "Летящая скрипка", темы каминных и настенных часов, которые были созданы на сюжеты "Пиковой дамы", "Кармен", "Марии Стюарт", гоголевского "Портрета", триптих "Экология" в защиту природы и многое другое. А в моей музыке расширились представления о художественных образах, навеянные полотнами художников от античных времен до модернизма, Монна владела богатой библиотекой книг и художественных альбомов, которые вот уже около 25 лет нашей совместной жизни я изучаю и духовно подпитываюсь.
Персональные выставки керамики Монны Рачгус, члена Союза художников России, проходившие в Москве и в Вильнюсе, сопровождались звучанием моих записей музыки Баха, Листа, Шопена, Рихарда Штрауса, Равеля, Дебюсси, Чайковского, Рахманинова... Монна - весьма эрудированный человек. Кроме того, она неравнодушна к социальной стороне жизни России, к политике, экологии. Участь "врага народа", постигшая ее отца в годы сталинских репрессий, тоже наложила отпечаток на ее восприятие нашей действительности.
Вот уже долгие годы мы с Монной всегда вместе в трудные и радостные минуты жизни.
Вместе разъезжаем по странам, где я в последнее время провожу в основном курсы мастерства.
Монна была со мной и в Роттердаме, когда я перенес тяжелейшую операцию на сердце. А шесть лет спустя, когда она оказалась в больнице на операционном столе, я вернулся из Америки после выступления на Саммит Брасс (Sammit Brass) на 4 дня раньше, чтобы перевезти ее домой. Но несколько дней спустя сам неожиданно свалился и попал в кардиологическое отделение. Монна, еще совсем слабая, опять ухаживала за мной.
Так, вдалеке от родины России, одни, мы и теперь поддерживаем друг друга и ни одного дня не проводим праздно. Заняты творческим трудом соответственно нашим возможностям. Время проводим в основном за письменным столом и на природе: я пишу или играю, Монна пишет, рисует или лепит.
Учеба в институте Гнеснных
Когда на конкурсе в Большой театр я играл "Концертное аллегро" Пескина, это сочинение не было известно Табакову. Кто-то из коллег Табакова - кажется, это был Ян Францевич Шуберт, фаготист Большого театра и преподаватель на кафедре института имени Гнесиных, созданной Табаковым, - поздравил Михаила Иннокентьевича с успехом его ученика, который на конкурсе в Большой театр играл новое, интересное сочинение композитора Пескина. Михаил Иннокентьевич, конечно, порадовался моему успеху, но сказал, что испытал неловкость (буквально это прозвучало: "Вынужден был хлопать глазами"), не зная, о каком произведении идет речь. Тогда я спросил, нет ли у него желания послушать "Концертное аллегро"? Он замялся, но ответил: "Хорошо.
Приходите".
Я уговорил Владимира Ананьевича пойти в консерваторию (Табаков тогда преподавал в консерватории и в институте) и сыграть Табакову незнакомое ему произведение. Мы пришли, долго ждали у дверей 26-го класса, где всегда занимался Табаков, но он не принял нас. На этот раз я испытал неловкость перед Пескиным и был оскорблен вместе с ним. Как видно, происшествие на заключительном концерте Всесоюзного конкурса не было забыто моим профессором. Почти год после этого инцидента я не ходил к Табакову.
Это было тяжело. Страдали мы оба. Тогда, помню, мудрую инициативу проявил мой товарищ Илья Границкий. В 1944 году он с первым приемом был принят в только открывшийся институт имени Гнесиных, в класс Михаила Иннокентьевича Табакова. Илья знал о сложившейся ситуации и , понимая, что мне нужен Табаков и я могу быть полезен ему (в годы войны, когда Табаков находился в эвакуации в Саратове, я по просьбе Елены Фабиановны Гнесиной занимался с его учениками, оставшимися в Москве), Илья постепенно подготовил Табакова к моему приходу.