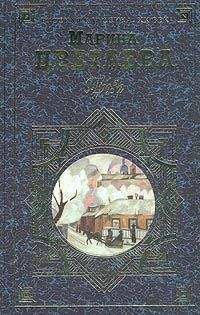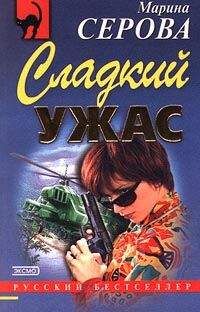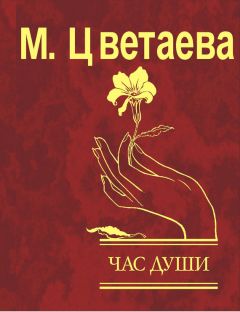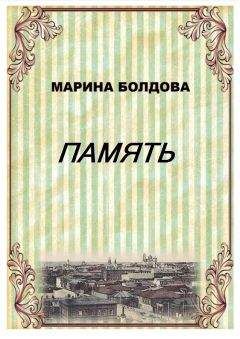Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество
Эти отклики, однако, не слишком портили настроение Цветаевой; она была энергична, бодра и поглощена житейскими заботами. Вот отрывок из ее письма к В. Я. Эфрон из Москвы от 11 июля, посвященного хлопотам по поводу покупки дома на Полянке: "Разрешение на купчую, выданное Сереже петербургским нотариусом и подписанное попечителем, — не по форме, и Сереже пришлось вторично ехать в Петербург. На днях это кончится, и мы уедем куда-нибудь на дачу…" И дальше, как о чем-то второстепенном:
"Прочла рецензию в Аполлоне о моем втором сборнике. Интересно, что меня ругали пока только Городецкий и Гумилев, оба участники какого-то цеха. Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду".
Эта мимоходом оброненная фраза говорила о том, что юная Цветаева не хотела присоединяться к каким-либо "течениям". Именно в этом смысле она утверждала, что литератором так никогда и не сделалась.
Надо сказать, что Цветаева пришла в русскую поэзию, когда на "пятки" русского символизма, в лице его старших представителей (Вяч. Иванова, В. Брюсова, А. Белого), наступало новое направление, приверженцы которого именовали себя акмеистами. Наиболее активными теоретиками акмеизма были Н. Гумилев, С. Городецкий. "Цех поэтов" — называлась их организация в Петербурге (о чем Цветаева прекрасно знала, разумеется). Не мистика, а реальность, не символические подобия, а живые, конкретные вещи и явления — так в заостренной формулировке звучала полемика более молодого направления с "устаревающим". А в это же самое время на сцену вышел русский футуризм. В 1912 году литературная публика была шокирована альманахом "Пощечина общественному вкусу". В декларации московских футуристов, подписанной, в частности, В. Маяковским и В. Хлебниковым, выразители "мужественной души сегодняшнего дня", новые рыцари "самоценного самовитого слова" требовали "бросить с Парохода современности" русских классиков. Через двадцать лет Цветаева с улыбкой вспомнит эту мальчишескую декларацию, авторство которой по инерции будет приписано одному Маяковскому…
Но, повторим, Цветаеву не волновала литературно-общественная жизнь и, судя по всему, не особенно затронул и резкий отзыв на ее книгу Брюсова в седьмом номере журнала "Русская мысль". Брюсов писал, что Цветаева продолжает "упорно брать свои темы из области узкоинтимной личной жизни, даже как бы похваляясь ею", и приводил адресованные ему строки, несомненно, задевшие его: "острых чувств" и "нужных мыслей" мне от Бога не дано". Он утверждал, что Цветаева "начинает щеголять" "небрежностью стиха", а под конец совсем уничтожает ее: "Пять-шесть истинно поэтических красивых стихотворений тонут в ее книге в волнах чисто "альбомных" стишков, которые если кому интересны, то только ее добрым знакомым" (статья "Сегодняшний день русской поэзии").
* * *Вскоре Марина с Сергеем уехали под Москву. "Мы живем на даче у артистки Художественного театра Самаровой, в отдельном домике… Режим и воздух здесь очень хорошие. На соседней даче живут Крандиевские (семья скульптора Н. В. Крандиевской. — А.С.). Мы останемся здесь до 20 августа. Адрес: Покровское-Глебово-Стрешнево по Московской Виндавской ж. д. Деревня Иваньково, дача Самаровой", — писала Цветаева Вере Эфрон 29 июля. 8 августа она оказалась на один день в Москве, так как из дома, который они купили, еще не выехали хозяева (они на даче) и не вывезли вещи.
В конце августа семья переехала в этот новый дом на углу Большой Полянки и Екатерининского переулка; как описывала его позднее Цветаева, — купеческий, "с мезонином, залой с аркой, садиком, мохнатым-лохматым двором и таким же мохнатым-лохматым дворовым псом, похожим на льва, — Османом. Дом мы с Сережей купили за 18, 5 тысяч, Османа — в придачу — за 3 р.".
* * *Пятого сентября 1912 года у Цветаевой родилась дочь.
"Аля — Ариадна Эфрон, родилась 5-го сентября 1912 г., в половине шестого утра, под звон колоколов.
Девочка! — Царица бала!
Или схимница, — Бог весть!
— Сколько времени? — Светало.
Кто-то мне ответил: — Шесть.
Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, —
Девочку мою встречали
Ранние колокола.
Я назвала ее Ариадной, — вопреки Сереже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые ("Ну, Катя, ну, Маша, — это я понимаю! А зачем Ариадна?"), друзьям, которые находят, что это "салонно".
Семи лет от роду я написала драму, где героиню звали Антрилией.
— От Антрилии до Ариадны. -
Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью.
— Ариадна. — Ведь это ответственно! -
— Именно потому".
* * *Между тем готовится к печати, а в феврале 1913 года, ровно через год после "Волшебного фонаря", выходит под тою же мифической маркой "Оле-Лукойе" третий сборник стихов Цветаевой — "Из двух книг". Он маленький, всего сорок стихотворений из "Вечернего альбома" и "Волшебного фонаря", и только одно стихотворение новое и опять обращенное к Брюсову. Не могла Цветаева равнодушно перенести его критику своей второй книги:
Я забыла, что сердце в Вас — только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия Ваша из книг
И из зависти — критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом…
Она так никогда и не узнала, что Брюсов был задет ее стихотворением; свою заметку об отношении к молодым поэтам (1913 г., не опубликована) он начал так: "Жестоко упрека <ли> меня как критика, находя, что я слишком беспощадно отношусь к стихам молодых поэтов; видели в этом даже зависть. Одна поэтесса так и писала, что вся моя поэзия создана
из книг
Да из зависти критика…"
Не ради ответа Брюсову, однако, издала Цветаева свой сборник. Вернемся на год назад.
В 1912 году вышла первая книга Анны Ахматовой "Вечер". Цветаева тогда же прочла ее. Книга открывалась предисловием Мих. Кузмина, в котором провозглашались идеи акмеистов. О том, что "Цех поэтов" недоброжелательно реагировал на Цветаеву, — говорилось выше, и легко догадаться, что она читала "Вечер" с усиленной пристальностью. Кузмин писал:
"В Александрии существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обреченными на смерть… нам кажется, что сама мысль о предсмертном обострении восприимчивости и чувствительности эпидермы и чувства более чем справедлива. Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир… в минуты крайних опасностей, когда смерть близка, в одну короткую секунду мы вспоминаем столько, сколько не представится нашей памяти и в долгий час, когда мы находимся в обычном состоянии духа.
И воспоминания эти идут не последовательно и не целостно, а набегают друг на друга острой и жгучей волной, из которой сверкнет: то давно забытые глаза, то облако на весеннем небе, то чье-то голубое платье, то голос чужого вам прохожего. Эти мелочи, эти конкретные осколки нашей жизни… ведут нас к тем минутам, к тем местам, где мы любили, плакали, смеялись и страдали — где мы жили".
Ахматова, утверждал Кузмин, "имеет ту повышенную чувствительность, к которой стремились члены общества обреченных на смерть", у нее есть "первое пониманье острого и непонятного значения вещей".
Подчеркивая тонкую поэтичность Ахматовой, Кузмин сравнивал ее с другими поэтами: И. Эренбургом, О. Мандельштамом — и с Цветаевой, которая, по его словам, ищет поэзию "в иронизирующем описании интимной, несколько демонстративно-обыденной жизни".
Могла ли Марина Цветаева, к тому моменту уже давно перешагнувшая рубеж своих полудетски-"мемуарных" стихов, согласиться с таким определением? Нет, разумеется. И она решает выпустить собственный манифест и пишет предисловие к своему тощему сборнику, составленному из ранних книг. С одной стороны, она этим отстаивает право писать, о чем говорила и прежде, с другой же… как бы дает согласный отклик на кузминское предисловие:
"…Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым:
Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! Но не только жест — и форму руки, его кинувшей; не только вздох — и вырез губ, с которых он, легкий, слетел… Записывайте точнее! Нет ничего не важного!.. Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, — все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души".
Да: она честолюбива, она знает себе цену и хочет быть услышанной…
* * *До апреля 1913 года Цветаева с семьей живет в собственном доме на Полянке. Несмотря на семейные заботы, она находит время для общения со знакомыми, круг которых после коктебельского лета 1911 года расширился. Двери "обормотника" на Сивцевом Вражке по-прежнему гостеприимно распахнуты для гостей. Вот отрывок из дневника писательницы Р. М. Хин-Гольдовской от 18 февраля 1913 года, рисующий "обормотскую" публику: