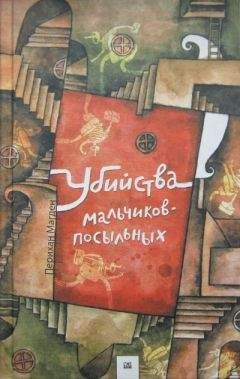Дмитрий Герасимов - Основной вопрос русской философии

Обзор книги Дмитрий Герасимов - Основной вопрос русской философии
Основной вопрос русской философии
Дмитрий Герасимов
© Дмитрий Герасимов, 2017
ISBN 978-5-4483-1949-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Основной вопрос русской философии1
Главную причину особенного, внеисторического характера русской культуры, а следовательно, и русской философии следует искать в несформированности христианской мысли, отсутствии школы рационального мышления в христианстве. Последнее было предопределено бесписьменным характером древнерусской культуры, к которой искусственным образом прививалось богатейшее древо христианской письменности и связанной с ней мысли. Неравные стартовые условия, связанные с наличием глубокой языческой традиции, составившей интеллектуальную оппозицию на Западе, и отсутствием таковой в Восточной Европе (христианскую книжность на Руси просто не с чем было сопоставить), в дальнейшем сильно повлияли на процессы христианизации двух культур, сформировали различные пути христианского Востока и христианского Запада.
Позднее образование государства и недолгий период существования крупных городов не способствовали появлению языческого текста2. Пришедшие на Русь вместе с христианством письменность и книга не имели стимула идейной дискуссии и не могли существенным образом повлиять на развитие культуры, основной массив которой и много веков после принятия христианства продолжал транслироваться прежним – дохристианским, доцивилизованным – способом, характерным для всех родоплеменных обществ – через устный рассказ, различные «художества», пение, сказку и т.п., исходившими из родового, мифологического сознания, свойственного языческой культуре. Христианское просвещение не могло затронуть глубочайшие слои народной души, оставшейся во многом языческой и по сей день, не потому только, что даже простая грамотность была мало востребована сначала древнерусским (допетровским) обществом, а затем и петровским просвещением, охватившем небольшую культурную прослойку, а потому прежде всего, что сама культура в том, в чем она и держалась – в народном, культурном сознании, не нуждалась в книге и чаще всего рассматривала последнюю в качестве не своего собственного, а основания «другой», хотя и более «высокой», но привнесенной (и в этом смысле – необязательной), сначала церковной («греческой»), а затем и западной («латинской», «немецкой» и т.п.) культуры.
Точно так же и в христианстве бесписьменная культура восприняла прежде всего то, что в нем самом было бесписьменного – культ и обряд. Так в русском христианстве на первый план выдвинулись основы не концептуальные, а внешние и производные от них. Христианство было воспринято прежде всего «сердцем» (эстетически), а не мыслью (с включением рациональных структур), мысль так и осталась нехристианской или даже дохристианской – синкретичной по форме и языческой по содержанию (духу). Образовалась устойчивая традиция недоверия к рациональному мышлению, лишь по видимости отражавшая христианскую направленность мысли: «Аз бо не во Афинех ростох, ни от философ научихся, но был падая аки пчела по различным цветом и оттуду избирая сладость словесную, и совокупляя мудрость, яко в мех воду морскую» («Послание» Даниила Заточника)3. Как бы не были замечательны сами по себе храмовое зодчество и иконопись, сколь бы не было велико значение богослужебной практики, обрядов, постов и т.п., а все же этого совершенно недостаточно для формирования «формальной», отвлеченной христианской мысли, способной «на равных» конкурировать и с развитой языческой мыслью классической древности и с новейшими умственными движениями и интересами. Здесь показательны история вольнодумной ереси «жидовствующих», в конце XV – начале XVI в. получившей широкое распространение в силу умственной отсталости тогдашнего русского общества – его «малокнижности», начетничества и просто невежества4, а так же история выдающегося русского просветителя и проповедника Максима Грека (Триволиса) – европейски образованного представителя христианской мысли XVI в., в столкновении с русской действительностью чья жизнь превратилась «в житие, в трагедию»5. Вообще, когда древнерусский книжник с восхищением и благоговением отзывается, к примеру, о греческих философах или «мудрости» как таковой, здесь нельзя обольщаться – такое отношение свидетельствует скорее в пользу того, что сам он остается сторонним наблюдателем, а не живым участником диалога мысли. В условиях полного безмыслия и «невегласия», каковых являло собой русское общество, даже то малое, что удавалось сделать русским книжникам (например, имевшая первостепенное значение богословская полемика вокруг монастырского «стяжания»), все же представляло собой настоящий подвиг мысли.
Христианская книжность, необходимость которой диктовалась жесткими условиями языческой образованности (составившей светские «квадривиумы» средневековых университетов) проще говоря – Библия, книги Ветхого и Нового Завета, положенные в основание Западной культуры, вызвали к жизни уникальный феномен средневековой мысли, получившей название «схоластики» (от лат. «школа»). Возникшее в результате пространство текста сформировало адекватное этому пространству мышление, ориентированное прежде всего на работу со словом как понятием и с выражением (высказыванием) – как логикой отвлеченной мысли: уже с XII—XIII вв. (с т.н. спекулятивных грамматик) начинается европейская семантическая традиция по разработке чистого универсального языка, формально не противоречивого и однозначного, столь необходимого для жестких теологических споров6. Напротив, отсутствие острых дискуссий по религиозным вопросам, отсутствие сколько-нибудь заметных по своим различиям школ и направлений религиозной мысли, практически полное отсутствие формального аппарата мысли (философии) и невозможность его выработки или даже простого заимствования в силу элементарной невостребованности – вот то, что делало абсолютно невозможным формирование самостоятельной христианской мысли, т.е. такой мысли, которая была бы не только формальной наукой, но при этом опиралась бы и на христианский духовный опыт7. В свою очередь, отсутствие строгой логики религиозного мышления не позволяло выработать рационального отношения религиозного сознания прежде всего к миру как ценностно безразличному субстрату духовной жизни, делало всю систему русской культуры крайне аморфной по форме и синкретичной по содержанию. В культурном сознании христианские темы самым причудливым образом сплетались и даже сплавлялись в единое целое с дохристианскими, языческими, которые в этом смысле ничуть не притеснялись, а лишь получали новую – «христианскую» – символику, что доходило до крайностей в так называемом двоеверии, когда, наряду с христианскими, сохранялись и даже усиливались откровенно языческие, племенные обычаи и нравы. Пространство бесписьменной культуры делало устойчивым и соответствующий ему – «бесписьменный» – тип мышления, в котором образность и красота компенсировала отсутствие понятийной логики, а господствующая эстетическая интуиция «целого» исключала саму возможность появления «независимого» текста, априори включая его в иерархию нравоучительного (или жизнеучительного) речения (или беседы).
Внешние единство и цельность этого мышления вовсе не соответствовали внутренней драме, глубочайшему расколу, столь характерным для христианского сознания, что в первую очередь выражалось в отсутствии подлинно христианского переживания истории и истории как таковой (прежде всего как «места» приложения собственных сил человека по благодати Божией). Круженье лет и дат от Рождества Христова пришло на смену круженью лет и дат от Сотворения Мира, но сущность бесконечного «возвращения», выражающего тщету человеческих стремлений, осталась та же. Выпадение из истории, сокрытость исторической перспективы – неизбежный результат отсутствия разработанной логики религиозного мышления. Общая для всех христианских народов (в силу общности как римо-византийских, так и ветхозаветных истоков) идея христианской империи лишь в России приобрела статус племенной идеологии (концепция «Москвы – Третьего Рима») и при первом же серьезном столкновении с действительностью (с соседями) привела к глубочайшему срыву всей системы мировоззрения – к «смуте», а затем и к расколу церковно-народного сознания.
С самого начала образовавшийся колоссальный разрыв между книгой и культурой, в основе своей остававшейся бесписьменной (а таковой она будет оставаться в подавляющей массе народной, крестьянской жизни – с естественным сохранением родоплеменных обычаев, сопутствующим им «коллективистским» мировоззрением и т.д., вплоть до начала XX века), в дальнейшем будет лишь усиливаться, дойдя до известного максимума в церковном расколе XVII в., когда книга во второй раз (после крещения Руси) окажется в роли исключительно внешнего («священного») орудия «исправления» культуры, такого же, как культ или обряд. Таким образом, к началу радикальных петровских преобразований не только русское культурное сознание, но даже и сознание церковное окажется в ситуации несформированности, а попросту говоря – отсутствия христианской мысли, а христианство в целом так и не успеет войти в разум культуры, соделаться подлинным основанием ее исторической жизни и развития. Все это самым пагубным образом скажется и на судьбе русской философии и на судьбе русской культуры в целом.