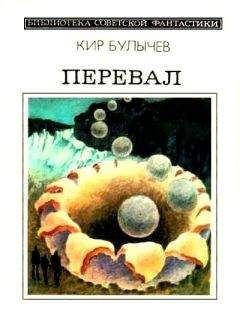Дора Коган - Врубель
Выставки Московского товарищества художников и Союза русских художников, на которых экспонировались произведения Врубеля, показали не только признание его искусства. Он становился модным, кумиром. И он сам воспринимал этот запоздалый успех трагически, как знак своего творческого заката. Он в отчаянии… Забела не может его успокоить. Вместе с тем разве он, со своей чистой красотой, не шел навстречу потребителю, не стремился нравиться? За произведениями Врубеля уже охотятся меценаты, перехватывают их друг у друга. Так случилось, в частности, с акварелью «Тридцать три богатыря» — эскизом панно для столовой в доме Алексея Викуловича Морозова, который попал в другие руки — к Гиршману.
Видимо, в это время художник вернулся к исполнению отложенного из-за болезни заказа — созданию самого панно. Тема для этого панно была выбрана в пору его работы над оформлением одноименной оперы и картиной «Царевна-Лебедь». Тогда же Врубель решил в акварели эскиз. Но к большому полотну он смог обратиться только после «воскресения», и радостью прозрения, возвращения к жизни отмечен этот холст. В картине появляется новая, небывалая для самого Врубеля свобода. Он отказывается от приемов, связанных с эстетикой стиля «модерн», от плоскостной орнаментальной мозаичности построения, присущих его панно, исполненным ранее, от непосредственно выраженных орнаментальности, декоративности. Конкретные строки пушкинского текста легли в основу композиции. Их Врубель перелагал на язык живописи:
«В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор…»
Живопись этого полотна совершенно непохожа на живопись картин «Сирень» и «К ночи». Панно написано так широко, размашисто и свободно, как никогда еще не писал Врубель. Только портрет С. Мамонтова можно вспомнить рядом с этой композицией. Большую часть холста занимает зелено-синяя «стеклянная» масса воды, играющая в свете и ветре. В ней выделены падающие отвесно волны, бело-розовая пена и водяные изломы, провалы в воде, в которых серебрятся рыбы, и, наконец, вьющиеся над водой чайки. Богатыри в горящей «как жар» чешуе во главе с морским дядькой кажутся, действительно, порождением морской стихий. В очертаниях фигур, каждой в отдельности и слитых вместе, в ритме, объединяющем их в одно целое, — удивительная непринужденность и естественность. Они неразрывно спаяны с морем в пластическом ритме, связаны с ним колористически по принципу дополнительных цветов, богато и сложно реализованному.
В этой картине нет и следа модернистской усталости, изощренности. Вся ее густая, страстная, широкая живопись, ее пластика предвещают живописные искания художников 1910-х годов. Протестантский, «эпатирующий» характер живописи бросается в глаза тем более, что произведение предназначалось для декоративных целей — украшения фешенебельного особняка. Вместе с тем по мажорному звучанию, по всему своему романтическому стилю и просветленности образ, созданный Врубелем, овеян настроением общественного подъема, охватывающим русскую интеллигенцию в первые годы XX века. В этом отношении произведение перекликается с картиной Серова «Купание лошади», только сказочный образ, созданный Врубелем, более «метафоричен», ярок, романтичен.
Живописная манера Врубеля была в этом произведении настолько нова, что за ним закрепилась репутация «незаконченного». Остроухов считал его «курьезным».
В этом блистательном творчестве совершалась и героическая борьба художника с безумием, за самого себя как личность. Эта борьба непосредственно запечатлелась в серии автопортретов. Ее начало отметило уже возвращение Врубеля к жанру, который он свыше десяти лет игнорировал. Более десяти лет его собственное лицо не интересовало его как художника. Теперь он снова вглядывается в себя.
Видимо, поначалу, вскоре после переезда в Петербург, был создан автопортрет с раковиной. С первого же взгляда всем окружающим бросилось в глаза отступление от натуры в этом портрете. Увы, ничего не осталось в его облике от прежнего «гонорового пана», от французского шарма и изящества, которые всего три года назад отмечал в нем Бенуа. Болезнь неузнаваемо изменила его, обезобразила. Это сразу заметила Екатерина Ивановна Ге: «Портрет самого Миши, который он еще не кончил, написан в совершенно новой манере, будет очень выписано, похоже на что-то чужое. На портрете он красивее и моложе, а сам бедный Миша теперь весь в прыщах, красных пятнах, без зубов». И это бескомпромиссно правдивый Врубель! Он хочет утвердить себя, возвеличить и при этом — помериться силами со старыми мастерами парадного портрета. Дуги спинок кресла, печь, гардероб со стоящей на нем вазой и скульптурой лебедя и, наконец, рядом погасшая свеча и угол переливающейся перламутром раковины — антураж вокруг модели. Он отмечен какой-то парадной торжественностью. С первого взгляда кажется, что торжественности исполнен и сам художник. Но весь он — с его неловкой осанкой, исхудавшим лицом, немым вопросом в глазах — выглядит потерянным среди этих предметов. Он словно старается с трудом, в торжестве над всем реквизитом, обрести себя, утвердить, свое достоинство и свою волю. Но эти предметы, вещи, которыми он загромоздил пространство, словно себе в поддержку, на самом деле еще больше подчеркивают его жалкость. Ему удается как-то «вынырнуть», как-то отомстить за свою униженность: какая-то гримаса проглядывает в его торжественном лице, еле уловимые сатирические черточки — что-то от звериного царства, лисьей повадки — в тонких, приподнятых над глазами бровях, в очертаниях носа и острых торчащих усах.
Можно было наблюдать, как он постепенно набирался сил, энергии и гордого самосознания и утверждал это пластически… На этот раз в своем портрете он воплощает собственное представление об идеале художника. Лицо дано крупным планом, и его оттеняют лишь белый крахмальный воротник и пестрый галстук. Рядом с этим автопортретом вспоминается только его автопортрет 1889 года — на пороге московской многообещающей жизни, — в котором «дендизм» Врубеля получил полное выражение. И какой сложный путь пройден им с того времени, какие метаморфозы претерпела его личность! Внутренняя воля, напряженная гордая властность и непокорность человека-художника олицетворены в этом позднем автопортрете. Их подчеркивает и скупая геометрия фона. Это — изысканное, утонченное, гордое лицо аристократа, представителя духовной элиты. Но не менее полно сказалась и оборотная, темная сторона этих элитарности и аристократизма. Напряженно сведенные брови, глубокие складки на переносице и страдальческое выражение глаз, почти неуловимая тронувшая губы тень сарказма, скепсиса, скользнувшая по лицу, ушедшая в намеченные тонкой паутиной линий усы. Разные глаза — с светлым и черным зрачками — придают особенную напряженность «ищущему» взгляду. Аристократизм, поклонение красоте, служение красоте и мученичество непостижимым образом сливаются. Словно художник испытывает на себе самом близость к темному демоническому его «чистой красоты», его прекрасного совершенства, которому он так фанатически служил. В этом портрете Врубель один на один с самим, с собой. Он, не только не хочет увидеть самого себя со стороны. Он исключает и посторонний взгляд на себя. И этот доведенный до крайности индивидуализм, «самозамкнутость» человека в самом — себе тоже придают образу печать трагизма.
Автопортрет явно сделан в пару к портрету Забелы с закушенной губой. Предельно точен художник в передаче всей пластики лица: вздернутый, но не «курносый» нос, странно асимметричный рот, — в котором Врубель, быть может, хочет уловить «предсказание» заячьей губы своего Саввочки, и русалочьи, слишком светлые глаза с неопределенным и в то же время «прозревающим» выражением. Лицо подчеркивают прическа и блестящий бант, в рисунке этих деталей выражен врубелевский совершенный орнамент форм, о котором он постоянно твердил Коровину и Серову. Жрецы священнослужители на алтаре красоты — вот смысл этих портретов. Творчество художника — это пророческая миссия, священнодействие.
Не случайно именно теперь Врубель снова обращается к образу Пророка. При этом художника интересует не момент встречи серафима со старцем. Он стремится представить лик самого «просветленного» героя.
Пророк — светлая личность, носитель великой идеи, нравственный гений и герой духа. В своем пророчестве он совершает моральный подвиг, следуя божественному признанию и предначертанию бога. Вместе с тем, одушевленный великими целями, он не толкователь закона и ученый. Человек воли, а не разума, Пророк — великий мечтатель. Поэтому, а также в силу могучего творческого духа Пророк — художник. В то же время, человек беспримерного мужества и народный трибун, он не принят народом, его цели противоположны желаниям инертной толпы и он неминуемо вступает с ней в конфликт. Наконец, Пророк и пророчество так же противоположны Христу и христианству, как Демон; в пророчестве есть элемент богоборчества. Поэтому неразрывно с его судьбой мученичество; тягчайшие проклятия и благословения сочетаются с ней.