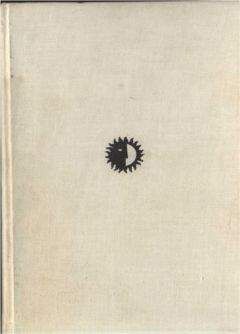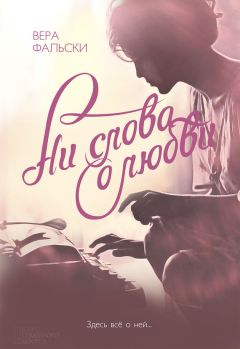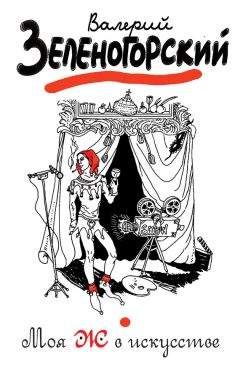Вера Домитеева - Врубель
Во второе лето на хуторе одеяние Врубеля не переменилось, только добавилась черная шелковая шапочка, помогавшая справляться с мигренью. Голова у Врубеля временами болела так, что, к ужасу свояченицы, он тогда «принимал фенацетин в страшном количестве, по 25 гран и больше». Несмотря на уверения сестры в хорошем сне и пищеварении Михаила, Кате показалось, что здоровье зятя ухудшилось. Кроме того, как сообщают ее воспоминания, «уже в этот год обнаружилась у Врубеля раздражительность, которой совсем не было заметно раньше. Он просто сердился, если кто-нибудь не соглашался с его отзывом о художественном произведении, и не хотел позволить публике, т. е. всем нам, говорить о красках художника». Мигрени мучили Михаила Врубеля с давних пор, но есть ощущение, что читанная весной заключительная часть трактата Толстого об искусстве весьма повлияла на участившиеся приступы головной боли.
Хотя бы античную меру прекрасного не трогал великий нравоучитель. Для него, видите ли, афиняне язычески «путались в установлении отношений добра и красоты». Толкует о заимствовании, подражательности. Не смыслит ничего в таком, например, тонком душевном созвучии с Античностью, которым отрадно сближает вкусы Врубеля и Римского-Корсакова поэзия Аполлона Майкова.
И первый посвященный Забеле романс «Еще я полн…», и второй — «Нимфа», и романс «Сон в летнюю ночь» с посвящением Михаилу Александровичу Врубелю написаны Римским-Корсаковым на стихи Майкова. «Одинокий человек без современников» (определение Юрия Айхенвальда), Майков — именно тот, «извращенный», по мнению Толстого, поэт, который «не для всех». Отшельник, не пожелавший «…выносить на рынок всенародный / Плод сокровенных дум и настежь растворять / Святилище души очам толпы холодной». Высокий культурный ценз требуется читателям Майкова, иначе только с томительной смутой на душе вслушиваться в его строки наподобие того
Как скифы дикие, пришедшие с Днепра,
Средь блеска пурпура царьградского двора,
Пред благолепием маститой Византии,
Внимали музыке им чуждой литургии.
Незабываемым остался в памяти Михаила Врубеля вечер, когда в гостиной композитора Надя и солист Мариинского театра Гавриил Иванович Морской пели дуэт Римского-Корсакова «Великий Пан» на слова Майкова.
Он спит, он спит,
Великий Пан!
Иди тихонько,
Не то разбудишь!
<…>
Он спит и грезит
И видит сны…
Струились, расходились, сливались два голоса, певшие об уснувшем боге лесов блаженной Аркадии, о позабытом божестве стихийных, властных, загадочных сил природы. Звучал очарованный мир сегодняшней мечты о мечте древних певцов красоты и вечной тайны. На глазах Врубеля стояли слезы.
А графу Толстому, стало быть, удивительно, как можно «вернуться в своем понимании искусства к грубому пониманию первобытных греков». Учитель жизни! Величайший знаток людей, семей счастливых и несчастливых. Ясно, что он измыслил бы, взяв персонажами чету Врубель и их друга композитора. Какой-нибудь криминально-чувственный бред наподобие знаменитой его «Крейцеровой сонаты». И оплошал бы проницательный мудрец.
Тональность восьмилетней переписки Забелы с Римским-Корсаковым приблизительно такова: «Уважаемая и добрейшая Надежда Ивановна, посылаю Вам мои романсы… Будьте здоровы и веселы: в Ля мажоре». — «Многоуважаемый Николай Андреевич, хочу по Вашему совету пребывать в Ля мажоре и надеюсь, что буду петь „Садко“, и „Псковитянку“, и „Снегурочку“, и даже еще что-нибудь, что выйдет из-под Вашего пера…» — «За лето я успел-таки окончить оперу „Царская невеста“… Думаю, что сопрановая партия Марфы Вам подойдет… беретесь ли ее спеть в Русском симфоническом концерте?» — «С наслаждением буду петь, но, по-моему, Вам следует написать о моем участии в концерте Савве Ивановичу: вдруг он запретит мне петь, так как он постоянно досадует за признание Вами моих достоинств…» — «Систематический обход такой артистки, как Вы, поистине удивителен… Ищите утешения в самом искусстве, в самой музыке, которая Вас не обходит». — «Многоуважаемый Николай Андреевич! Как холодно это „многоуважаемый“ и как мало выражает то, что Морская царевна чувствует к автору „Садко“; каким прилагательным выразить благодарную нежность и восхищение…» — «Прошел концерт, уехали Вы, и как-то скучно стало, а, кроме того, не отвязывается мысль: не вред ли принес Вам концерт… Я со своей стороны скажу Вам, что я лично не доволен оркестровкой…»
Имелся или не имелся в этих письмах романтический подтекст, необходим фанатизм кладоискателей, чтобы его отрыть. Со стороны композитора ни малейших поползновений выйти за пределы музыки не наблюдалось. Со стороны певицы промелькнуло некоторое сугубо женственное сочувствие Николаю Андреевичу, которого недостаточно понимают в его семье, однако общий друг Забелы и Римского-Корсакова успокоил тревоги Надежды Ивановны, уверив ее, что домашняя жизнь композитора совершенно благополучна и гармонична.
В менее длительном эпистолярном общении Врубеля и Римского-Корсакова страстные разговоры об искусстве. По поводу возмущающих художника, столь активно выдвигаемых Мамонтовым «драматических сопран» композитор излагает свое кредо: «Считаю музыку искусством лирическим по существу, и если меня назовут лириком, то буду гордиться, а если назовут драматическим композитором — несколько обижусь… ибо музыку приспособляю к сцене, но не жертвую ей для оной». Относительно несправедливых утеснений Забелы в Частной опере композитор солидарен с Врубелем, хотя склонен к осторожности из опасения навлечь на певицу еще большее неудовольствие Саввы Ивановича. Зато новая опера «Царская невеста» сочиняется с мыслью о голосе Надежды Ивановны, и условием постановки оперы у Мамонтова автор непременно поставит исполнение Забелой партии Марфы.
Надежда Забела, от переживаний впавшая, как она признается композитору, в «черную меланхолию», боится, что мстительный Мамонтов нарочно испортит спектакль. Прислушавшись к ее уговорам, встревоженный Римский-Корсаков раздумывает, не взяться ли самому за постановку оперы в хорошем провинциальном театре. Михаил Врубель с энтузиазмом предлагает свои услуги в качестве декоратора. Николай Андреевич чрезвычайно благодарен, но несколько смущен — он думал взять декорации напрокат, а расходы на новое оформление будут, вероятно, непомерны… Всё обошлось. «Царскую невесту» поставил Мамонтов, и поставил превосходно, с декорациями Врубеля. Марфу пела Забела, и пела с исключительным успехом. Обмен письмами между Врубелем и Римским-Корсаковым незаметно угас. Вполне хватало горячих взаимных приветов через Надежду Забелу. В обоюдном, всячески подчеркиваемом расположении художника и композитора друг к другу имелись тормозящие моменты.
Врубель любил сказочные оперы Римского-Корсакова. «Мне, — вспоминает Забела, — пришлось петь Морскую царевну около 90 раз, и мой муж всегда присутствовал на спектаклях. Я даже как-то спросила его: „Неужели тебе не надоело?“ — „Нет, — отвечал он, — я могу без конца слушать оркестр, в особенности море. Я каждый раз нахожу в нем новую прелесть, вижу какие-то фантастические тона“». К исторической по сюжету «Царской невесте» Врубель отнесся прохладно. Зато линию музыкального волшебного фольклора он принимал восторженно, писал композитору: «Я благодаря Вашему доброму влиянию решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду… Как бы хотелось не повторять в мильонный раз музы, а сделать что-нибудь русское, например: Лель, весна-красна, леший. Не подскажете ли еще чего?» Намерение Николай Андреевич приветствовал, но от подсказок уклонился «за отсутствием какой-либо фантазии на живописные мотивы».
По правде говоря, искусству Врубеля, его манере Римский-Корсаков не симпатизировал. Врубель был для него из стана чуждых, непонятных декадентов. Единственный включенный композитором в его «Летопись» отзыв о живописи Врубеля своеобразен: «М. А. Врубель мне показывал свою картину „Морская царевна“. На картине, между прочим, был изображен рассвет и месяц в виде серпа, причем последний был обращен к заре своей вогнутой стороной… Я заметил художнику его ошибку, объяснив, что на утренней заре может быть виден лишь месяц на ущербе, а никак не новый месяц, и притом к солнцу бывает обращена всегда выпуклая сторона. М. А. убедился в своей ошибке, но переделывать картину не согласился. Не знаю, осталась ли эта картина с такою астрономической несообразностью или впоследствии он все-таки ее переделал».
Не переделал. У художника собственные причуды. Вот почему-то среди скульптурных майоликовых персонажей «Снегурочки» отсутствует героиня сюжета. Есть Купава с характерным жестом печально сложенных тонких длинных рук Забелы (она пела и эту партию), есть разомлевшая на солнышке Весна, пластикой, как считал художник, напоминавшая его жену, есть царь Берендей (с портретными чертами композитора) и пастух Лель, а Снегурочки, сценический образ которой создавался под руководством автора оперы, нет. Чем-то не устроил этот образ художника, не вдохновил. А композитор не расслышал своей музыки во врубелевской льющейся скульптурной форме, в радужном мерцании особой люстровой глазури керамических сюит «Снегурочка» и «Садко». Его зрительным представлениям о русской сказке лучше всех отвечал Виктор Васнецов. Случись Римскому-Корсакову выбирать между «Богатырями» Врубеля и Васнецова, он, несомненно, предпочел бы васнецовский вариант. Хотя Врубель ведь не боролся с Васнецовым, относительно которого у Врубеля даже прозвучала нечастая в его устах наследственная признательность. И Врубель вовсе не стремился отличить своего Богатыря вычурной загадочностью. Напротив, композитору писал о надежде работами в фольклорной теме выправить недостатки «моего живописного языка, который, как Вы знаете, и я чувствую, хромает в ясности».