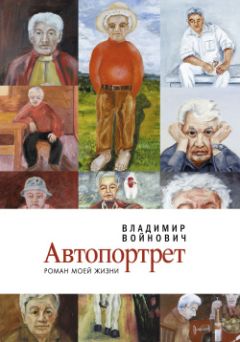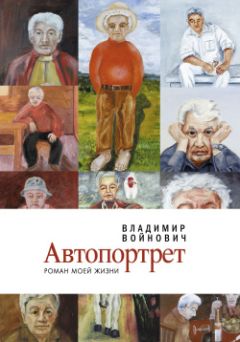Дмитрий Быков - Статьи из газеты «Россия»
Три четверти романа посвящены созиданию сталинского мифа — не того дешевого, пошлого, портяночного, который возникал в утопической прозе сталинских времен вроде пресловутого «Кавалера Золотой звезды», а настоящего, какой рисовался, вероятно, подлинной интеллектуальной элите. Если академики — это не Лысенко, а настоящие мудрецы, чьи диспуты не уступают сократовским. Если поэты — то не эпигоны Гумилева и Киплинга, не военные журналисты, непрерывно любующиеся собой, а железные рыцари, мужественные Орфеи нового образца, усовершенствованные и возведенные в куб Симоновы. Если военные летчики — то не хулиганы и грубияны, а опять-таки античные красавцы с европейским кодексом чести. Словом, всякая вещь возведена к своему, так сказать, платоновскому первообразу.
«Москва» — первый стопроцентно платонический роман в русской литературе. Потому что разоблачать сталинизм на уровне тезиса «Сталин был закомплексованный и рябой» — бессмысленно. Надо разбираться не со Сталиным, а с первообразом. С платоновским Благодетелем, на которого Аксенов и замахнулся. Выстроив свое совершенное высотное здание, живописав блистающую летнюю Москву с ее роскошью, изобилием и всенародно возлюбленной дисциплиной, воспев идиллию всеобщего согласия и умиления, воинской доблести и творческого труда, Аксенов взрывает ее изнутри, с последней наглядностью демонстрируя ее обреченность: эта пирамида не живет без внешнего врага, которого непрерывно приходится бояться. После разгрома Гитлера на роль этого врага могут претендовать только гайдуки бывшего брата Тито. Сталин панически боится этих гайдуков — и как всегда бывает в пространстве платоновского мифа, этот страх немедленно материализуется. Угроза, без которой не могла воздвигаться и функционировать сталинская высотка, становится реальной. Гайдуки, взявшись невесть откуда, берут власть и окружают главу утопического государства, запертого на последнем этаже своей высотки, в идеальном убежище, становящемся склепом. Платоновская модель общества венчается быстрым и неотвратимым апокалипсисом с той же неумолимой закономерностью, с какой сталинская высотка венчается шпилем. Этот мощный архитектурно-философский вывод, безупречный, хотя и несколько предсказуемый финал — жирная точка в конце теоремы: что и требовалось доказать.
Есть два пути бегства из высотки: можно уйти через подвал, а можно улететь на фанерных крыльях, как улетали иногда, говорят, подневольные строители главного здания МГУ. Главного смельчака и крутого мачо Аксенов низводит в подвал и подземные коммуникации — что символично: несчастного, слабосильного космополита-джазиста спасает при помощи крыльев — и это еще символичнее. Вообще надо учиться читать символистскую прозу: она, конечно, часто недостоверна в бытовом смысле, но доказательна и увлекательна в философском. Вслед за Пастернаком, поздней Ахматовой, Крыжановским, Платоновым Аксенов возрождает русский метафорический роман, притчу, по-новому осваивая наследие символистов, чья работа оказалась оборвана так искусственно и преждевременно. «Москва ква-ква» — продолжение линии Андрея Белого, Федора Сологуба, Алексея Скалдина: это научный роман в лучшем смысле слова, развернутая метафора, хотя и не без фирменного аксеновского озорства. Кстати, даже любовные сцены — в отличие от великолепных соитий главных героев «Кесарева свечения» — исполнены тут тяжеловесно, статично, как скульптурные группы; никогда не было у Аксенова такой злой пародии. Аксенов честно пошел до конца — и в результате долгого эксперимента пришел к тому, к чему и хотел. С платоновским государством, кажется, никто еще так серьезно не воевал, и временами сочувствующий читатель ощущает, как тяжело самому Аксенову перевоплощаться в этот серый камень. Любить парадно-физкультурную, воздушно-арочную сталинскую Москву — одно, вживаться в нее — совсем другое. Чтобы преодолеть эстетический соблазн сталинизма, Аксенов вынужден был ему поддаться — и благо читателю, который переболеет этим соблазном в аксеновской версии. Это — прививка, которая может оказаться спасительной.
Мы переживаем «новую фазу» — именно «Новой фазой» называется движение неосталинистов в романе. Сегодня в России полно обожателей уже не конкретного Сталина, но абстрактной платоновской империи, в которой нет места поэзии и личной воле, зато полно государственничества и служения, и все это красиво и жирно, как сливочный пломбир времен нашей юности. С этой «новой фазой» надо бороться романами нового типа. Один такой роман уже написан. Порадуемся за писателя, не побоявшегося принять вызов.
Что до неосталинистов и неоплатоников, им после этой книги остается только посочувствовать. Они честно пытаются сказать «Москва», а получается у них «ква-ква».
№ 15(495), 20–26 апреля 2006 года
Вечно Живаго
Борис Пастернак написал великий роман «Доктор Живаго». Юрий Арабов и Александр Прошкин сделали великую вариацию на темы этого романа. Когда-нибудь это станет очевидным.
Сегодня их картину будут ругать долго и с наслаждением. Тем важнее и приятнее сказать правду: в России впервые за последние пять лет появилось кино, за которое ни секунды не стыдно, кино, в котором по-настоящему освоен опыт последнего периода русской истории. Последним таким фильмом была криминальная сага «Бригада» — но «Бригада» изображала жизнь как она есть, без метафизики. «Доктор Живаго» — превосходная притча о том, как Россия обманулась в очередной раз, типологически точно, хоть и на новом витке воспроизведя все обстоятельства своей неудавшейся революции.
О том, что делать человеку в цикличной истории, не предполагающей никакого нравственного начала и неизбежной, как движение стрелок по циферблату, размышлял в 50-е Пастернак. Тогда ему открылось, что история — такой же лес, как природа, и движение ее так же имморально и так же предопределено. Личная, христианская история начинается там, где человек выходит из этого леса, как ушел Живаго от партизан. Формы этой самостоятельности в 20-е годы были совсем не те, что в 90-е, хотя суть сохранялась. Герой Пастернака — человек 10-х годов с их пафосом, высокопарностью, религиозными исканиями; герой Олега Меньшикова, впервые за последние годы подтвердившего свой высочайший актерский класс, — человек 70—80-х с их усталой иронией, долгим и бесплодным скепсисом. И тот, и этот Живаго выстрадали свой стоицизм. Оба убедительны и достоверны. Юрий Живаго вообще написан у Пастернака так, что каждый вкладывает в него собственное представление об идеале: Живаго — тот, кем Пастернак хотел быть, и жизнь, и смерть у него такие, и даже стихи он умудряется — в двадцатые-то годы! — писать так, как хотел и не мог Пастернак, пришедший к своей поздней гармонии только в конце 30-х. Новый Живаго — тот, кем хотели и не могли быть семидесятники: человек, заранее отказавшийся от соблазнов свободы и торгашества, спекуляций и эгоцентризма, энтропии и пошлости. Лара у Арабова не зря произносит пастернаковский текст — «Хочу вас видеть таким, как всегда», — и добавляет: спокойным, ироничным… Ироничный спокойный Живаго! Но чтобы сохраниться, не соблазниться, не пасть, герой нашего времени должен быть таким. У него другой опыт.
Прошкин — человек исключительного социального чутья и быстрой реакции. Именно его фильм 1979 года «Инспектор Гулл» запомнился многим как первый знак грядущего кризиса: застой был уже пронизан смутной тревогой, предвестием катастрофических перемен, чувством всеобщей вины. У Пристли это было не так отчетливо, хотя и его пьеса была о ситуации краха империи, только в неожиданном, сугубо частном преломлении. В 1987 году он умудрился снять «Холодное лето пятьдесят третьего» — едва ли не лучший фильм тех лет, картину, в которой не было и тени перестроечной эйфории. Наступило лето — но холодное, свобода — но преступная, и порядочному человеку, едва вышедшему за колючку, предстоит теперь, используя все прежние навыки, спасаться уже от блатного беспредела. В 87-м, господа, это было далеко еще не очевидно, оттого и мужество режиссера оценили немногие. Теперь эту картину смотришь как мрачное и точное пророчество: разумом такие вещи не постигаются, тут могла сработать только могучая интуиция.
Сегодня Прошкин, опередив многих (картина-то делалась не сегодня — сценарий Арабова по заказу режиссера написан два года назад!), не зря обратился к «Доктору Живаго» — одной из самых важных и трудных книг двадцатого века. В ней концепция истории и государства еще революционнее, чем у Толстого, радикальнее, чем у самых отважных мыслителей русского религиозного ренессанса: Иван Ильин, которого так любят кстати и некстати цитировать нынешние вожди России, топтал бы эту книгу ногами с куда большей яростью, нежели всякие товарищи Семичастные. Какое уж тут противление злу насилием и активная жизненная позиция, за которую по разные стороны железного занавеса так ратовали советские идеологи и некоторые агрессивно-православные мыслители! Никакого участия в истории, кроме пассивного; полное внешнее безволие при железной внутренней воле! Христианское мужество в том и заключается, чтобы не противоречить воле Творца, сохраняя себя в предлагаемых обстоятельствах и пальцем не шевеля, чтобы их улучшить. Гефсиманская нота в романе — главная: да минует меня сия чаша — впрочем, пусть будет, как ты хочешь, а не как хочу я. Пастернак яростно возражал пошлейшей сталинской формулировке насчет безвольного Гамлета (из постановления о «Большой жизни» и второй серии «Грозного»): воля Гамлета в том и заключается, чтобы не бежать от жребия. Арабову и Прошкину важно подчеркнуть в Живаго именно это волевое начало — и доктор у них отказывается от наркоза, руководя операцией на собственном бедре; правда, от боли он теряет сознание, но до последнего удерживается от криков. Этот волевой, насмешливый, чуждый всякой сентиментальности Живаго не менее убедителен, чем пастернаковский кроткий мыслитель; и, кстати, в спорах с партизанами, со Стрельниковым, с Шурой Шлезингер — доктор именно таков, так что эпизод с ранением вполне работает на пастернаковскую концепцию. Я вообще думаю, что Борис Леонидович, при всей своей поздней гордыне, одобрил бы многое в арабовской версии.