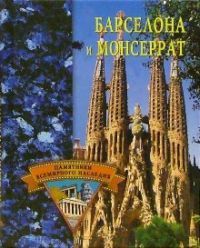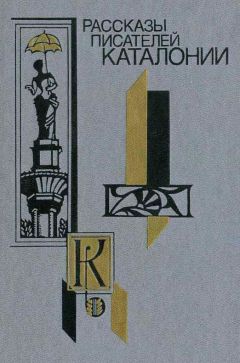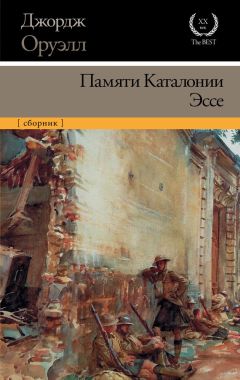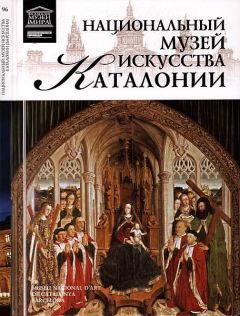Николай Федь - Литература мятежного века
""Окаянные дни" - свидетельство бессильного в своем прозрении пророка, - катастрофа уже надвинулась, и материковые пласты уже заскрежетали, стали смешиваться, но это не только катастрофа России, это подступающий апокалипсис всего человечества. Столетием раньше или позже какая разница?"
III
Достоинством литературы любой эпохи является отражение жизни в социально-исторической конкретности, показ реальных причин, вызывающих общественные сдвиги, тенденции, добродетели и пороки. Для этого писателю важно находиться в гуще интересов своего времени.
Тогда в его сочинении мир истинного и справедливого пребывает в тесной связи с объективным ходом исторического развития, то есть должное и действительное взаимодействуют тесно между собой. Речь идет об эстетическом освоении действительности, которое принципиально отличается от любого реального опыта человека.
Настоящий писатель - это мысль, на нем лежит обязанность приобщить современников к тому, что происходит сегодня, равно как и подготовить их к восприятию событий, которые могут произойти, к счастью или несчастью, на скрещивании исторических координат. Каждая из наук рассматривает человека с какой-либо одной стороны, и лишь искусство дает о нем представление в целом. Но жизнь прекраснее, трагичнее, разнообразнее и т.д. наших представлений о ней. Поэтому истинный писатель, близко стоящий к недрам народного бытия, обречен на творческие муки, равно как в некотором роде уподобляется страннику, бредущему по опаленной солнцем пустыне.
Важнейший принцип поэтики Проскурина состоит в создании сильных характеров, нередко поставленных в экстремальные ситуации. Речь идет не только о типе творчества, но и об основных принципах реализма второй половины ХХ века, в котором переплелись правда и вымысел, реальные и фантастические начала. Осмыслить сущность и назначение жизни нельзя без глубокого постижения существа человека, социальной среды и природы. Вместе с тем выработать философские убеждения - значит создать настоящие явления искусства, ибо философы не только мыслители, но и художники. Проскурина всегда занимали "сложные вопросы", он из тех русских писателей, который обладает большим талантом и духовной силой, позволившим ему вырваться из-под гнета косной общественно-литературной среды и поставить свое творчество на службу национальных интересов. Отсюда - его тревога и боль за судьбу России, за бедственное состояние русского человека. С большой силой это проявилось в его крупномасштабном произведении "Отречение".
Заключительный роман трилогии "Отречение", вышедший отдельной книгой в 1993 году, как большинство сочинений взыскательного мастера, давался нелегко. Здесь с особой обнаженной жесткостью почувствовалось сопротивление материала. Автору нужно было идти или на упрощение, либо вновь и вновь искать единственно верное в данной ситуации и для главного персонажа душевное движение, поступок, реакцию на то или иное событие, заранее зная, что это вызовет новую лавину неожиданностей и усложнений. Героя нельзя принуждать, ему нужно помогать развиваться, сохраняя в нем полноту и противоречивость жизни, т.е. изображать таким, какой он есть - и тогда он жизненен, правдив. Он несет на себе сложнейший отпечаток индивидуальности самого творца и, конечно, многочисленных, часто весьма противоречивых веяний времени. Требование гармонии не исключает, а, наоборот, заключает в себе стереоскопическое видение и воплощение жизни, ее симфоническое звучание, и отражение ее полноты. Тут по опыту знал художник, он обязан быть особенно чутким, ибо, пропуская через себя огромную реку жизни, нередко мутную, а то и отвратительно грязную, важно не потерять ориентиров и не потерпеть крушения.
Видимо следует еще раз вспомнить о роли и значении образа положительно прекрасного человека (положительного героя), преданного анафеме позднесоветскими и постсоветскими деятелями. Имеется в виду главный персонаж трилогии Захар Дерюгин, который жил в творческом сознании художника тридцать лет и порою действовал по своей собственной воле. Характерный для Проскурина принцип символического укрупления событий и характеров, равно как неуемное стремление быть в гуще народной жизни мощно проявились в образе Дерюгина с его цельной неукротимой натурой, взрывчатой и противоречивой в психологическом и социальном плане. "Вы сильный человек, Захар Тарасович, - скажет учительница Елизавета Александровна, - только пропастей в вас, пожалуй, многовато".
На фоне бурного времени эти "пропасти", усиленные общественно-политическими обстоятельствами, когда "у мужика новая-то жизнь не сразу выходит, наизнанку его ненароком выворачивает", оборачиваются нередко зияющими провалами в судьбе Захара. Ибо, понимает он, ломка освященных веками традиций, устоев, обычаев идет по живому телу народа: "Это ж надо, все на дыбы вздернуть, живого места не оставить от вековой жизни! Она-то была, вон как из нее кровища хлещет, а ведь из дохлого она не потекет". Это истинно народный взгляд на происходящее, народная оценка жизни, как она есть.
Здесь как бы сливаются линии Михаила Шолохова и Петра Проскурина, бросая беспощадно-ослепительный свет святой правды на состояние мира. Если внимательно присмотреться, можно заметить, что в философском и духовно-нравственном плане судьбы Захара Дерюгина и Григория Мелехова во многом схожи, более того, Захар, как неутомимый правдоискатель, является продолжением Григория. Их многое объединяет - поиск истины, ошибки, заблуждения, трагизм судьбы.
Разница же в том, что Григорию Мелехову выпал жребий угодить под губительные жернова истории на заре переходной эпохи, а Захару Дерюгину трижды испить сию чашу - коллективизация, Отечественная война, начавшийся развал государства, - пройдя путь на душевную Голгофу от веры до отречения... И все-таки он сдюжил, не пал духом, не стал жертвой глубокого безверии и пессимизма, а равно и религиозно-мистического экстаза, коим ныне пытаются щеголять не только литературные персонажи, но и сочинители.
Знаменательно, что художник искусно, без нажима переводит своего героя из реальности в сферу легенды, предания - и мы согласны с его новой ипостасью. Он как бы наделяет Дерюгина (по крайней мере в сознании народа) бессмертием. Таково волшебство настоящего искусства! "Высокого, прямого старика со стершимся лицом и пронзительным взглядом из-под тяжелых, обесцвеченных временем косматых бровей не раз видели то в одном, то в другом городе, то где-нибудь на дороге к Новгороду или Владимиру... Видели его с заплечным мешком и в Киеве, в Печерской лавре... А еще говорят, что видели его в одном из московских храмов... Этот удивительный старик, отказавшийся назвать себя, сказал всего несколько слов о том, что Бога, может быть, и нет, но что Бог необходим... Вероятно, это был и не зжеский лесник, старики, так же, как и дети до определенной поры, часто бывают похожи один на другого".
Интересно, как виделся самому создателю его герой? Вот что пишет он в своем дневнике 20 января 1990 года. В начале января 1990 года, а точнее 3 января, "отнес последнюю завершающую книгу трилогии в журнал "Москва". Роман "Отречение" сложился весьма парадоксальный, Захар Дерюгин словно повторил свой путь, но теперь уже от устья жизни к ее истокам. На его мужицкую судьбу наложился еще один пласт откровения ранее не подвластный ни вскрытию, ни осмыслению для такого, как сам Захар Дерюгин, и часто опасался, не случилось ли от подобного поворота, единовременно возможного в поисках истины, распада образа, его деградации? Стоять рядом со своим героем чуть ли не тридцать лет (с 1961 года, когда были написаны первые страницы трилогии), и не притерпеться к нему, не впасть в отношении его в ересь, было почти невозможно: что за образ получился, что он в себе таит? Именно в нем под конец сосредоточилась вся зыбкость и неуверенность человеческой судьбы в завершение двадцатого века, но в нем сохранилась и неистребимая вера в чудо, народный оптимизм, русская народная жизнестойкость, во многом уже извращенная и подорванная предшествующими десятилетиями партийной тирании именно русского народа, его истории. Что же произошло - вставал вопрос перед романистом и его героем - вдохновенные пророки? Гоголь? Тютчев? Достоевский? Лесков? Своим гением, своим космическим пониманием духовности, они невольно привлекали излишнее любопытство всегда ревниво следившего за русской жизнью Запада и ненависть Европы, в основном уже успокоившейся и умиротворенной, давно оставившей поиск души и Бога, и лениво и сытно колышушейся в прилизанных и всегда одинаковых берегах размерянной животной жизни. Россия подсознательно раздражала Европу не только своей неуспокоенностью. Была и остается теперь главная причина - ее природные богатства, огромность, территориальная протяженность из материка в материк".