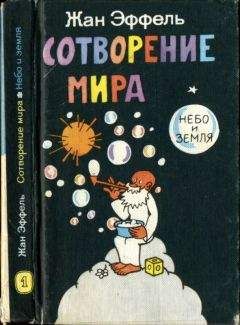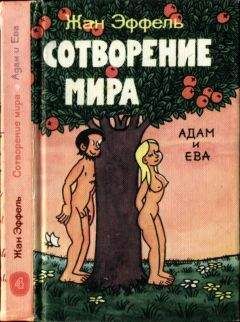Герберт Вейнсток - Джоаккино Россини. Принц музыки
Этим все и закончилось. Вагнер оставался тверд, хотя я еще раз передал последнее приглашение Россини, когда привез Вагнеру «Гранскую мессу», переданную маэстро Листом.
Мне кажется, что главной причиной отказа Вагнера была уверенность в том, что вторая встреча с итальянским маэстро принесет ему мало пользы. Цель, которую он ставил себе перед первой встречей, была полностью достигнута, а больше ему ничего не было нужно.
Оба мэтра больше никогда не встречались, но могу засвидетельствовать, что всякий раз, когда Вагнеру доводилось устно или письменно упоминать имя Россини, он отзывался о нем с глубочайшим уважением. Так же и Россини. Он интересовался успехом постановок вагнеровских опер в Германии и в связи с этим часто поручал мне передавать композитору поздравления и приветы».
Глава 17
1860 – 1863
Спустя шесть месяцев после приема Вагнера на Шоссе-д’Антен Россини радушно встречал на своей вилле в Пасси человека, считавшегося самым главным антивагнерианцем – Эдуарда Ганслика. Австрийский автор опубликовал в венской «Нойе фрайе прессе» пространное описание своего визита к Россини. В частности, он повествует:
«Я обнаружил Россини в маленьком кабинете на втором этаже его виллы в Пасси. Он был погружен в написание партитуры. Приветливое выражение его лица и дружески протянутая рука компенсировали ту неловкость, с которой он встал, когда я вошел. Голова Россини, так отличающаяся от его хорошо известных портретов, сделанных, когда он был на вершине славы, все еще производит впечатление головы великого и привлекательного человека. Под «мещанским» коричневым париком виден чистый ясный лоб. Его карие глаза искрятся умом и дружелюбием. Довольно длинный, хотя и красивой формы нос, чувственный рот, круглый подбородок свидетельствуют о былой привлекательности старого итальянца. По портретам можно было бы представить Россини более высоким, чем на самом деле: и действительно, его массивная голова, кажется, предполагает более высокий рост. Невзирая на тучность и возросшие проблемы с ногами, Россини настоял на том, чтобы отвести меня в свой нижний кабинет. Опираясь на трость, композитор медленно спускался по лестнице, он явно гордился своим домом. «Вся вилла была полностью построена и обставлена за пятнадцать месяцев, – сказал он. – Полтора года назад на этом месте ничего не было». Стены и потолок комнаты украшены фресками. Россини лично выбрал для них музыкальные сюжеты и заказал написать их итальянским художникам. На одной из фресок мы видим Моцарта, приглашенного в императорскую ложу в «Опера» императором Иосифом II после представления «Свадьбы Фигаро», на другой – Палестрину, окруженного своими учениками, и так далее. Пространство между большими картинами заполнено медальонами с портретами Гайдна, Чимарозы, Паизиелло, Вебера и Буальдье. «Моп tres bon ami Boieldieu![93]» – неустанно восклицал мой хозяин...
Маэстро пребывал в чрезвычайно приподнятом настроении и был очень разговорчив. Я даже не испытал эгоистического искушения многих посетителей, которые для собственной выгоды стараются «выжать» каждого известного человека, словно лимон. Воспоминания о Вене, где он не был с 1822 года, казалось, вернули старого маэстро в счастливые времена. В один из моментов он упомянул свою оперу «Зельмира», написанную им тогда для Вены. «Именно в Вене, – одобрительно сказал он, – я впервые нашел публику, умевшую слушать. Я был совершенно потрясен таким вниманием и интересом: в Италии зрители болтают во время исполнения музыки и замолкают только к началу балета».
Меня настолько интересовало отношение Россини к его восторженному биографу Стендалю (Анри Бейлю), что я позволил себе задать об этом сдержанный вопрос. Россини ответил, что видел этого самого очаровательного из своих поклонников только однажды, но никогда с ним не разговаривал. Он встретил его в доме певицы Паста. Кто-то сказал Россини (возможно, в преувеличенно недоброжелательном тоне), будто Стендаль хвастался своим близким знакомством с ним, и он «не захотел иметь ничего общего с подобным лжецом». Едва ли нужно упоминать, что я испытал жалость по отношению к этому отвергнутому обожателю, ныне покойному, и попытался восстановить его доброе имя.
Мы сели на диван, с которого открывался вид на залитые солнцем клумбы в саду. Перед нами стоял стол, покрытый нотными листами; почти все они представляли собой исключительно новые аранжировки из «Семирамиды», попурри, экспромты, кадрили и другие подобные материалы, присланные композитору издателями. Несколько месяцев назад французская версия «Семирамиды» была поставлена в «Опера», и теперь опера снова вернулась в моду... Сам Россини узнал об этом только по слухам. Он не был в театре шестнадцать лет, «с тех пор, – добавил он, – когда певцы еще были способны петь. А теперь они вопят, они мычат, они борются!».
Его гораздо больше интересовали политические события в мире, чем «сцена, представляющая этот мир». Несмотря на свое восхищение и доверие к Гарибальди, Россини отказался дать благоприятный прогноз будущему итальянского движения. «Я знаю своих соотечественников, – сказал он, качая головой, – они хотят все большего и большего и никогда не испытывают удовлетворения. Италия слишком мала для чрезмерного количества своих больших городов; их взаимная ревность никогда не прекратится, они никогда не придут к добровольному подчинению».
В то время как Россини продолжал говорить в своей приятной приподнятой манере, я с восхищением наблюдал в чертах его лица живое взаимодействие между интеллектом и искренностью. В его речи и наружности проявлялись те присущие детям искренность и наивность, что мы обычно отмечаем во всех гениальных людях. Поддаваясь мягкому, ровному течению обеспеченного времяпрепровождения, в любом возрасте не утрачивая способности радоваться искусству или человеческому общению, не склонный к амбициозности, старый маэстро прожил последние тридцать лет жизнью мудрого эпикурейца. Поскольку он больше не думает о своем собственном искусстве и не ждет внимания от других, можно понять ту объективность, с которой Россини взирает на современную музыкальную сцену; он является беспристрастным зрителем, наблюдающим за ней без зависти или горечи, хотя порой и с иронией...
Большие музыкальные дискуссии о том, какой должна быть музыка будущего, не вызывают у создателя «Цирюльника» никакого интереса, разве что любопытство. За год до этого Россини принимал ванны в Киссингене. Как только он появлялся на галерее, где отпускались минеральные воды, оркестр исполнял отрывки из его опер. «Вы представить себе не можете, как мне это надоело. Я поблагодарил дирижера и сказал ему, что гораздо больше мне хотелось бы услышать что-нибудь незнакомое, например из Рихарда Вагнера». Он прослушал марш из «Тангейзера», вполне ему понравившийся, и другое произведение, которое впоследствии не мог вспомнить. Это все, что он знал о Вагнере. Россини пожелал узнать чуть больше о сюжете «Лоэнгрина». После моего короткого и ясного разъяснения он весело воскликнул со своим забавным акцентом: «А, понимаю! Это Гарибальди, который вознесся на небо!» Рихард Вагнер недавно посетил старого джентльмена, он «совсем не казался похожим на революционера», – описание, с которым каждый, кто знает этого небольшого изящного человека, неутомимого и остроумного собеседника, с удовольствием согласился бы. «Вагнер, – Россини рассказывал, – представившись, сразу же успокаивающе заверил, что не имеет ни малейшего намерения ниспровергать существующую музыку, как о нем говорят другие. «Дорогой господин, – прервал его Россини, – это не имеет никакого значения. Если ваша революция успешна, то вы абсолютно правы; если вы терпите неудачу, то вы просчитались в любом случае, революция это или нет». Россини не хотел признаваться, что знает злобную шутку, распространенную тогда в Париже, в которой музыка Вагнера сравнивается с «рыбным соусом без рыбы». Я полностью поверил бы ему, если бы он не добавил в своей шутливой торжественной манере: «Я никогда не говорил таких вещей». Но каждому известно множество подобных шуток, автором которых был Россини, склонность его к иронии вне всяческих сомнений. Ему приписывают недавнее восклицание в том же роде, прозвучавшее после просмотра партитуры Берлиоза: «Какое счастье, что это не музыка!»
Добрый джентльмен был столь же неутомимым собеседником, как и слушателем, и мне самому пришлось подумать о его возвращении к своим мирным занятиям. Поэтому я проводил его обратно вверх по лестнице в кабинет, где он очень сердечно простился со мной. Так как знаменитый хозяин стал для меня близким и дорогим человеком, я не смог покинуть его без волнения. По величественным улицам, мимо роскошных вилл я направился в сторону Сен-Клу. Через открытые окна, подобно аромату роз, струились нежнейшие мелодии из «Вильгельма Телля». Я инстинктивно коснулся своей шляпы и, обернувшись, отсалютовал вилле, где золотая лира сверкала как маленькая звезда».